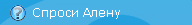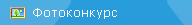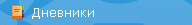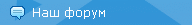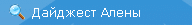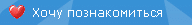В Москве, за семнадцать лет до великой Отечественной войны, в семье советского военнослужащего, произошла непоправимая семейная драма, произведя на свет младенца, умерла его подруга жизни, оставив младенца-дочурку сиротой.
Девочка, оставшись без матери, росла и воспитывалась у родной бабушки - чистокровной польки.
Характер у девочки был спокойный, покладистый. Росла она послушной, любознательной, любимым ее занятием было рисование, изготовление разных подделок, мягких игрушек. Она могла часами сидеть в уголке, занимаясь своим любимым делом, никому не мешая. Эти ее природные данные, склонность к рукоделию по настоящему проявились, когда она поступила в учебное заведение, где по его окончанию выдавался диплом «Закройщика-Модельера».
Когда гитлеровцы напали на нашу Родину, Шурочке исполнилось семнадцать лет. Природа одарила ее дивной, редкостной красотой. В крови ее предков текла русская, испанская и польская кровь. Может быть, смешение этих трех национальностей и придавало ее внешности особую, неповторимую прелесть. Бабушка-полька, у которой воспитывалась девушка, говорила лучше на польском, чем на русском языке, поэтому Шурочка без всяких трудностей овладела польской разговорной речью, так как дома общались с бабушкой на польском языке, ничуть тем самым не умаляясь своего родного языка.
Когда началась война, Шура уже являлась настоящим профессиональным модельером, сама моделировала, сама шила и сама показывала, то есть демонстрировала одежду в роли манекенщицы на подмостках при салоне мод.
Начальство на девушку возлагало большие надежды, говоря: « При ее природных данных, да трудолюбии она далеко пойдет». Может быть, оно так и случилось бы, не будь войны, но проклятая война все перевернула с ног на голову. Теперь надо было бороться за право жить, пытаться выжить, не умереть с голода.
Гитлеровцы, попирая нашу землю, наступали ошеломляюще стремительно и в скором времени оказались под самой Москвой, сердцем нашей Родины. Учебное заведение, где училась Шура было закрыто, о салоне мод и говорить нечего, о нем никто даже не вспоминал. Промозглая, голодная Москва жила настороженной жизнью военного времени. Все кто мог держать оружие в руках уходили на фронт, мирные предприятия переквалифицировались в военные, вывозились из Москвы.
Шура осталась одна. Отец ушел на фронт, бабушка умерла, оставив Шуру, предоставленной самой себе. Где-то в Москве жила новая семья отца, но Шура там не была желанной гостьей.
И вот, однажды, полуголодная, но тепло одетая, благо одежки еще не поизносились, скиталась Шура по городу в поисках работы и попалась ей на глаза вывеска «Пункт по отправке на фронт». Возле указанной вывески стояла толпа молодых ребят и людей постарше, укутанных в разное тряпье, терпеливо дожидавшихся своей очереди. Девушка окинула с надеждой очередь и, немного несмело помявшись, пристроилась к очереди, стала ждать, надеясь попасть на прием. «Авось повезет, как бы было хорошо попасть на фронт, приносить хоть самую маленькую пользу, чем тут погибать без дела голодной смертью».
Уставшая, замерзшая, полуголодная девушка задумалась о своей нелегкой судьбе и не заметила, когда подошла ее очередь. Ее дергали, настойчиво подталкивая к двери: «Ты, что уснула, девка, вон очередь твоя подошла, заходи, али раздумала?»
Шура встрепенулась, невольно внутренне подтянулась и взялась за холодную дверную ручку, дверь легко раскрылась, пропуская в небольшую комнатушку, где почти всю стену позади стола, крытого лоскутом красного сукна, занимал портрет Сталина. Он строго смотрел на вошедшую, как бы оценивая, на что она способна. Шурочка сдрейфила под взглядом отца народов, но продолжала стоять у стола.
За столом сидел немолодой, по военному подтянутый, средних лет, мужчина. Он почему-то настойчиво разглядывал чернильные пятна на красном сукне, покрывавшем стол, затем стал рыться в бумагах, и когда, наконец, поднял глаза на Шурочку, то чувства невольного восхищения, смешанного с отцовской жалостью, отразилось на его суховатом лице. Кивком головы человек предложил Шурочке сесть, и неожиданно участливо спросил, что ее сюда привело?
Девушка ответила просто, как родному отцу, что ей некуда деваться, а на фронте быть может, ей удастся принести хоть какую-то пользу.
Мужчину, сидящий за столом, задумался, разглядывая Шурины руки, которые она пыталась отогреть своим дыханием. Он сидел так довольно долго, Шура подумала было, что он забыл про нее и кашлянула.
Он, вдруг встал, затем снова сел, посмотрел на нее и глухо произнес, словно извиняясь: «Нам нужны люди, но знающие иностранный язык, а что я могу дочка, тебе предложить, уму не приложу
- Я владею в совершенстве польским языком.
- О, это уже что-то,- произнес мужчина, уже более заинтересованно, разглядывая девушку.
- Гм, польский, говоришь, да польский. Отлично! Вы нам пригодитесь, - сказал он уже более официально и вышел в другую комнату, дверь в которую Шура только теперь заметила.
Он там просидел довольно долго, Шура даже ждать устала, но дверь в это время распахнулась, и он проследовал к столу, взял молча бумагу, и стал писать. Спустя минуту, вручил Шуре направление на курсы радистов.
Девушка была счастлива, радуясь, как ей повезло. У нее сразу разрешились две проблемы. Она себя почувствовала нужной, пошла разыскала тут же адрес, по которому велись курсы радистов, отдала направление молоденькой, строгой девушке. Та внесла ее в списки и строго, почти приказом, произнесла: «Не опаздывать, дисциплина есть дисциплина, а сроки обучения сжаты, сами понимаете – война».
Начиная с этого дня, Шура занималась на курсах радистов, здесь ее кормили, не так уж сытно, но жить было можно, так вот разрешилась у нее проблема с питанием.
Помимо занятий на курсах радистов, девушка посещала кружок парашютистов, овладела техникой прыжков с парашютом, не говоря уже о тщательно изучении легенды, придуманной для нее, с помощью которой она должна была внедриться в высшее общество варшавской знати, войдя в доверие к немцам и выполнять свою миссию.
Командование на нее возлагало большие надежды, так как у нее была привлекательная внешность, и она досконально владела польским языком.
Шура училась польским правилам этикета, то есть как вести себя за столом, как правильно по- светски одеваться, вести беседу, уметь поддержать разговор.
По окончании курсовой программы, в учебное заведение приехал партработник и, работая с каждым радистом в отдельности, проверял знание легенд за кордон.
Все после его прихода внутренне подтянулись, почувствовали свою значимость, но проходил день за днем, а они оставались невостребованными. И вот, когда Шура находилась почти на грани отчаяния, пришел приказ – ее и троих мужчин отправить в Польшу. Всех четверых должны были выбросить десантом в районе леса. Было договорено, что знаком будет служить треугольником, зажженные костры.
По приземлении парашютистов должна была ждать машина, которая и должна была их развести по нужным точкам.
И вот, наконец, они в самолете. Ночь выдалась темная, самолет бесшумно набирает высоту, все молчат, Шура абсолютно спокойная, ничуть не волнуясь, ждет команды, не чувствуется никакого волнения и среди ее попутчиков.
Самолет летит, иногда падает в воздушные ямы, но это никого не пугает, все устремлены вперед, никому не передается волнение летчика. А он уже давно волнуется, по времени самолет уже должен быть над лесом, но костров пилот не видит, и это его беспокоит. «Ах! А вот и долгожданные костры, - вздыхает он. Да, горят наши костры, наш целованный треугольник», - радуется пилот.
«Товарищи, - тихо пронеслось по салону самолета. – Приготовиться! Пора! В добрый час!»
Первым выбросился с парашютом молодой инструктор Жора, за ним последовали двое остальных, Шура прыгнула последней.
Стремительно приближаясь к земле, она не ощущала тяжести своего тела, казалась себе парящим перышком. Толчок! Парашют раскрылся. Но, что это? Девушка, хоть и смутно, но видит, что парашют проносится не над лесом, а над крышами домов. Город почти не освещен, но все равно видно, что это город с домами, улицами. Вдруг последовала пулеметная очередь, за ней другая. По ногам Шуры ударило горячей волной, а над головой ярко вспыхнул парашют, что дальше происходило, она не помнила.
А происходило самое страшное, что только могло произойти. Дело в том, что в их группу проник предатель. Поэтому-то огни костров горели не в лесу, как было условленно, а в центре города, где парашютистов ждали гитлеровцы с пулеметом, автоматами, овчарками.
Шура с простреленными ногами упала без сознания в высокий снежный сугроб в усадьбе пана Страшевского. Погруженная в сугроб, она там оставалась до рассвета. Меховый капюшон куртки прикрыл лицо девушки, что спасло ее от обморожения, руки в меховых рукавицах тоже не пострадали.
Слуги пана Страшевского, услышав выстрелы, лай собак, лающую речь гитлеровцев, боялись высунуть носа на улицу, вышли во двор аж под утро, и тогда обнаружили в сугробе снега замерзшего парашютиста. Он глубоко вошел ногами в снег, руки раскинув в стороны, голову запрокинув назад. Лицо закрывал капюшон куртки.
Один молодой дворник, приоткрыв капюшон, так и замер от удивления, приоткрыв рот. Из под капюшона смотрело лицо столь дивной красоты, что у паренька перехватило дыхание, горький комок жалости подкатил к горлу. Это была девушка. Ее соболиные брови, сдвинутые к переносице, составляли сплошную узкую линию, пушистые черные ресницы касались смуглых щек, пухлый рот, с губами вишневого цвета, застыл в мучительной гримасе, приоткрывая ряд жемчужных зубов.
Сбежались остальные слуги, дали знать пану, не зная, что делать с непрошенной гостьей.
Пришел пан, вопросительно глядя слугам в глаза. Но когда взглянул на божественно красивое лицо девушки-парашютистки, опешил, но взял себя в руки, отослал слуг, оставив только самых доверенных лиц.
Тем временем девушку вытащили из сугроба, обледеневшие, негнущееся тело, словно каменную статую, по приказу пана, внесли в подземные апартаменты, где он и его семья пережидали бомбежки гитлеровцев.
В подземных помещениях, куда внесли девушку, было тепло, уютно, имелось все необходимое даже для длительного здесь проживания.
Пан невольно принимал активное участие в трагической судьбе столь очаровательной незнакомки. По его указанию ее положили на кушетку, обитую кожей, разрезали голенища сапожек, из которых полилась кровь, падая на пол большими темными сгустками. Пан при виде крови, сморщившись, отвернулся, глубоко задышал. Его стошнило.
Девушка не подавала признаков жизни, но когда преподнесли к ее губам зеркало, то оно запотело.
- Жива, - сдержанно произнес пан и велел слугам снять с девушки задубевшую одежду.
Обледеневшая одежонка была разрезана, осторожно снята и перед глазами изумленного пана и слуг предстала смуглая богиня, ассоциирующая собой божественную, целомудренную юность. Ее нетронутые девичьи груди с крупными вишневыми сосками говорили о страстности натуры, а темная от грудины до лобка о большой женской плодовитости. Пан взмахом руки велел прикрыть тело, ему казалось, что они совершают святотатство, создавалось впечатление, будто подглядываешь в замочную скважину за ни о чем не подозревающей невинной девушкой.
Вызвали домашнего доктора, которому было доверено руководить оживлением девушки, упавшей с неба.
Ее уложили в ванну с горячей водой и принялись растирать ее, все ее негнущееся тело ворсистыми щетками. Растирали долго и тщательно, пока, наконец, девушка не застонала, приоткрыла черные, агатовые глаза и, бессмысленно глядя перед собой, спросила на чистом русском языке: «Где я? - после чего снова наступило помутнение в ее мозге, и она надолго отключилась.
Много пришлось повозиться, но все-таки бедную незнакомку привели в чувство.
Полностью придя в себя, юная богиня заговорила на польском языке, чем очень обрадовала своих спасателей. Ей сделали уколы, напоили горячим, чаем со спиртом и уложили в чистую постель, надеясь, что она после сна будет полностью здоровой.
Это так думали простые обыватели, доктор думал совсем по-другому. Его беспокоили ее ноги. Пулевые ранения, по-видимому, раздробили в них кости, а длительное нахождение на холоде обескровленных конечностей вызвало обморожение.
Сон девушки был тревожным. Она металась во сне, что-то кричала, кого-то звала, плакала, а проснувшись попыталась встать, но ноги ее не слушались, тяжелые, как свинцовые гири, не двигались.
Доктор досконально осмотрел эти дивной красоты, потрясающе длинные, стройные, но уже омертвевшие ноги, качая головой, не мог сдержать жалости.
Многое ему пришлось повидать на своем веку, как полевому хирургу, на его руках умерло много юных и более мужественных солдат и офицеров, но ни разу он не испытывал такой жалости, как к этой юной девочке, свалившейся с неба.
А между тем состояние здоровья Шуры ухудшалось, ее трясло, страшный озноб охватил всем ее телом, температура катастрофически росла, ноги распухли, стали чернеть. Началась гангрена обеих ног, сказывалась большая потеря крови. Жизнь девушки висела на волоске. Нужна была кровь, но где ее взять, но даже, если найти кровь, то как перелить ее ей, чтобы не убить? Ведь ее группа крови неизвестна, а условий для ее определения нет. Но находчивый доктор решил проблему по-своему, по законам военного времени – взял кровь пана, свою и слуг, и каждую в отдельности смешал с кровью девушки. Только кровь пана и девушки при смешивании не свернулась. Это уже было спасением. Так пану Сташевскому пришлось стать донором, и вскоре спасительные капли крови пана потекли по сосудам несчастной, неся ей жизнь. А в это время доктор тщательно готовился к операции. Предстояло удаление обеих ног пострадавшей. Он боялся не успеть, гангрена прогрессировала со страшной скоростью, охватив уже бедренную часть ног.
Пани Ядвига Страшевская, супруга пана, взялась помогать доктору, в качестве операционной медсестры. Ее горничная Марыся, во время войны работавшая санитаркой в полевых операционных, должна была давать наркоз. Доктор гордился тем, что не выбросил хирургические инструменты, тех времен, когда работал полевым хирургом, ведь все эти молотки, пилы так сейчас были необходимы при ампутации.
Обработав руки по всем правилам существовавшей в то время медицины, надев халат, марлевую повязку, доктор перекрестился, произнес: «С богом», - и приступил к операции, работая, как настоящий мясник.
Пану Страшевскому, отдавшему изрядное количество крови стало не по себе и его увели, зато обе женщины справлялись со своими обязанностями отлично.
Доктор, обливаясь потом, наконец-то ампутировал одну ногу. Теперь встала проблема с кожей, на довольно большую площадь культи не хватало кожи с оставшегося обрубка ноги. Тогда доктор снова проявил находчивость, сильно рискуя, стал снимать кожу с той ампутированной ноги, где кожа еще не была охвачена гангреной. Снятые лоскутки кожи тут же пришивал к коже на обрубке девичьей ноги, таким образом, за считанные минуты обшил кошей всю культю, остановил кровь, крепко перевязал остаток ноги и принялся за ампутацию другой ноги. Теперь работа продвигалась медленнее, чувствовалась усталость, доктор был уже не молод. Все чаще останавливался, отдыхая, то сердечные пришлось принять, но с божьей помощью справился вскоре и с другой конечностью. Зато кожи не было где взять для обшивки другой культи. За время ампутации, ампутированная вторая конечность почернела выше, и доктор боялся рисковать, брать с нее нужную кожу. Пришлось взять ее с ягодиц прооперированной.
Уставший, но довольный своей работой, доктор закончил ее далеко за полночь. Обе женщины тоже валились с ног от усталости.
Обезноженная девушка лежала на деревянном щите, не подавая признаков жизни. Ее сердце работало с перебоями, лицо страшно побледнело, появился носоглоточный синюшный треугольник. Пришлось срочно вводить сердечные, заменитель крови, глюкозу.
Все эти процедуры подействовали благотворно, и она задышала ровнее, даже порозовела, или людям так показалось, так как они этого страстно желали.
Прошло несколько мучительно долгих часов, прежде чем она очнулась от наркоза, но тут начались другие проблемы, начались боли в несуществующих конечностях. Что только доктор не перепробовал, но боли не проходили, и девушка тяжело страдала.
Как-то, однажды, когда боли были особенно сильными, доктор на свой риск ввел прямо в нервы простое средство, и боль утихла. С этого времени пациентка пошла на поправку. Но началось другое. Осознав, что осталась без ног, Шура впала в глубокую депрессию, часами сидела, глядя в одну точку, отказывалась от пищи, от лечебных процедур. А как-то закатила страшную истерику, кричала, рвала волосы с головы, царапала себе лицо, искусала до крови себе руки. Доктор долго пытался уговаривать ее, но это ее еще больше распаляло, и доктор, потеряв над собой контроль, больно ударил ее по одной, затем по другой щеке. Она тут же остепенилась, удивленно оглядываясь вокруг, точно проснулась.
В этот день по предписанию доктора ее вынесли в загороженный участок сада, где она дышала, наслаждаясь ароматами земли, слушала пенье птиц, подставляя лицо ласковым солнечным лучам.
- Ну, теперь ты видишь, что жить стоит? – спросил ее доктор.
Она как-то особенно грустно, взглянула на него, снова впадая в истерику, все кричала:
- Зачем вы меня спасли? Кому я такая нужна? Зачем? Зачем? Дайте мне ответ. Зачем? Зачем и для чего вы спасли меня? Ненавижу! Поняли? Я вас ненавижу! Вы просто чудовище!
Доктор молчал, давая возможность разрядиться. А когда, она, обессиленная своим беснованием, умолкла, строго произнес: « Если еще хоть раз будешь паясничать, буду пороть! А жизнь прекрасна, и жить стоит в любом случае. Пройдет время, и ты сама убедишься в этом, не раз вспомнишь старого доктора с благодарностью».
Шура молча разглядывала свои искусанные до крови руки: «Может быть, он прав, зачем я так, за что его так, ведь он довольно пожилой человек. Должно быть стыдно мне, ведь он не виноват в моей беде, он только пытался спасти мне жизнь» С этих пор она дала себе слово просто жить, дышать, видеть, слышать, осязать. «Надо что-то начать делать, стать полезной людям, тогда и жить станет легче, появится охота жить, - решила бедная девушка.
С этого дня она перестала закатывать истерики. А, когда, как-то ей в руки попал журнал мод, то она долго, с интересом разглядывала нарисованные в нем эскизы одежды. После просмотра журнала сидела задумчивая, погруженная в себя, а к вечеру попросила цветные карандаши, бумагу, ножницы. Именно с этого момента у нее началась другая жизнь.
Она рисовала модели одежды, да так искусно, что пани Ядвига, однажды увидев ее работы, диву далась. У панов Страшевских имелась швейная мастерская, где уже многие годы ничего нового не изобреталось. Шили шаблонные платья, костюмы старых фасонов, а тут такая изобретательность, фантазия.
Пани Ядвига модели Шуры стала внедрять в производство, и вскоре в кругах потребителей заговорили о швейной мастерской Страшевских, и о пане Ядвиге, как о звезде-модельере.
Лично Шуре ничего не было нужно, ей была нужна работа, за работой она забывала о своем тяжком увечье. Ее раны заживали хоть медленно, но уверенно, и вскоре зажили полностью. Она даже выглядела похорошевшей, приободренной, казалось, смирилась со своей участью.
С доктором они стали настоящими друзьями. Он полюбил ее отцовской любовью, да по сути дела и являлся ей вторым отцом, ведь не будь его, в то самое тяжелое для нее время, ее жизнь бы давно оборвалась.
Прошел, самый трудный в жизни девушки год. Она полностью оправилась от столь тяжелой, как физической, так и душевной травмы, боли. А чуткое отношение окружавших ее людей делало свое дело. Она действительно похорошела, возмужала, расцвела, как только можно расцвести при ее положении, находясь в каменном бункере, да еще без обеих ног. С пани Ядвигой у них появились общие интересы, а когда к балу у мэра города Шура сшила платье для пани Ядвиги, так, что скрыла все недостатки ее фигуры, подчеркнув ее лучшие качества, то вообще стали, чуть ли не подругами.
Ведь несмотря на то, что шла война, над головой рвались бомбы, но польская женщина всегда полна оптимизма. Так и здесь устраивались балы, это было одно название «бал». На самом деле люди жаждали общения, чтоб хоть на некоторое время забыть о страшном горе, постигшем их Родину. Полуголодные они все равно любили оживленную беседу, хорошую музыку, хотели быть хорошо и прилично одетыми, красивыми, хотели нравиться окружающим.
А Шурочка любила делать приятное, ей это доставляло удовольствие, уверенность в себе, например, для детишек служанки пани Ядвиги, приставленной для ухода за Шурой, она мастерила такие дивные одежки прямо из тряпья, что несказанно радовало их мать.
Пани Ядвига не была стяжательницей, не гонялась за славой, она против своей воли присваивала труды Шуры, не могла же она объявить всему миру, что у нее в доме живет русская радистка, которая и являлась автором этих моделей.
Шуре исполнилось восемнадцать лет, но она оставалась все ещё не целованной девчонкой. А ее молодое тело, вопреки всему, жаждало ласки, любви, горело по ногам непонятным для девушки огнем. В нем бродила шальная кровь, проснулся зов продления рода. Если бы у Шуры была возможность видеться с молодыми людьми, наверное, она без раздумий отдала свою любовь одному из них. Ведь против природы не пойдешь. Все мы родились для любви, для счастья.
Прошло еще два длинных года, Шура полностью посвятила себя работе. Теперь уже именно она шила наряды паночкам из высшего общества.
Пани Ядвига стала желанной гостьей в каждом доме, в каждой семье, ей доверяли самые сокровенные тайны, благодаря стараниям Шуры.
Шура, изолированная от всего мира, не знала о том, что происходило на фронтах, не знала и того, что над ее головой в со вкусом убранных, залах кружатся в вальсе прекрасные панночки в нарядах сшитых ее руками. Угнетало ее то, что она ничего не знала и не могла узнать о своих товарищах, что с ней вместе, в ту злополучную ночь, покинули самолет. Живы они, или их убили тогда, она не имела возможности узнать. Так уж жестокая судьба распорядилась, что она безногая, оказалась пленницей этого каменного мешка. Но на судьбу ей ничего было жаловаться, она должна была благодарить судьбу, что попала к добрым людям, которые спасли ей жизнь, да и в данное время выделили отдельную комнатушку, оборудовали удобной для нее мебелью, например, кровать была низкой, кресло тоже низенькое, удобное, мягкое, и она без посторонней помощи переваливать в них свое тело. Смастерили для нее четырехколесную каталку, которая фактически заменила ей ноги, ведь отталкиваясь руками, она ездила на ней по бункеру. Хоть это была простая тележка с четырьмя колесиками, на рессорах которой лежала доска, обшитая стеганым одеялом, но Шура была благодарна ее создателю, ведь она передвигаться, а это главное.
Вскоре Шуре пришлось пережить тяжкое горе утраты – уме, внезапно ушел из жизни, доктор. Она долго оплакивала его кончину, чувствуя себя еще более одинокой, ведь ушел из жизни хороший собеседник, умелый советчик. Она первое время совсем растерялась, не зная, что делать, но когда первая боль утраты улеглась, она стала работать еще с большим рвением, отдаваясь полностью работе. И так день за днем. Днем была занятость, хоть какое-то общение с людьми, а ночью, оставаясь наедине с собой в каменном мешке, выла загнанной волчицей, то забывшись тревожным сном, то проснувшись в непроглядной тьме, чувствуя себя совсем оторванной от мира. В одну из таких ночей Шура долго не могла уснуть, все грезила о чем-то недосягаемо-прекрасном, а когда уснула, то оказалась в цветущем, весеннем саду. Сад благоухал, раздавалось дивное пение птиц, порхали бабочки, солнечные лучи так и скользили по цветущим деревьям, зеленой траве. Шура, молодая, красивая, здоровая весело смеясь, увертывалась от молодого стройного красавца, чуть ли не летала среди цветущих деревьев.
Он гонимый любовью, настиг ее, подхватил на руки, кружился с нею на руках, целовал, шептал слова страстной любви, прямо сгорая от неугасимой страсти. Но вдруг все изменилось, не успев, как следует объяснить ей своих чувств, как его кто-то отозвал в сторону.
Шура не заметила, кто именно, явился предметом их разлуки, терпеливо, с трепетом в груди, ждала его возвращения. А он, казалось, позабыв о ней, перепрыгивая через кусты, мчался за кем-то. Потом так же быстро обернулся на Шуру и с распростертыми объятиями побежал к ней, но в это время из-за кустов благоухающего жасмина ему на встречу выпрыгнула холеная львица, а может быть грациозная газель, Шура не могла разглядеть. Красавчик, пораженный красотой и грацией животного, остановился, любовно разглядывая его. Животное нежно мурлыча, смотрело на него сияющими глазами, затем призывно прогнуло спину, подняло хвост и увивело его от ожидавшей Шуры. И она ничего не могла предпринять, чтобы вернуть его, стояла словно пригвожденная к земле.
Когда же предмет его вожделений скрылся с прекрасным животным в густых зарослях, она очнулась от сладостных грез, сидя в своей колясочке, с грудным ребенком на руках. От тяжести в сердце, от мучительных колик, в давно отсутствующих ногах, она проснулась. Сердечко прямо-таки вылетало из груди, тело покрывал липкий, холодный пот, она всеми помыслами своими стремилась за молодым человеком, уплывавшим в туманные дали.
«Господи! Что со мной происходит? Кто этот дивной красоты мужчина, явившийся мне во сне?»
Она до утра не уснула, пролежав с открытыми глазами, грезила наяву, плакала, видела в мечтах свою родную Москву, Подмосковье с его березовыми рощами, с зелеными лужайками, усыпанными ромашками, лютиками, слышала звонкие трели соловьев, и слезы катились и к5атились из ее прекрасных глаз. Почему-то вспомнила отца, жалела, что он так и не мог с ней проститься, уходя на фронт. Он жил в другом районе города, с другой семьей, а она жила с бабушкой, но она его очень любила. Отец платил взаимностью, но так распорядилась судьба, что он больше бывал со своей новой семьей, с младшими детьми, что народила ему его вторая жена. Шура не таила на него обиды, даже очень хорошо его понимала. Наступило утро. Шурочка узнала об этом по стуку ножей на кухне, по говору поваров. Вскоре в ее комнатушку вошла женщина, помогавшая ей одеться. Ведь Шура одевалась мучительно медленно, самым трудным в процессе одевания было натягивание ватника, в виде шортов, на нижнюю часть тела. Вот и приходила Марта, помочь, но в это утро Шура решила это сделать сама, без ее помощи, и отлично справилась, затем перевалив тело на свою каталку, казалось слилась с нею, становясь с нею одним целым, ведь это были ее утраченные ноги, по сути дела, так вот девушка медленно направила свою каталку по каменным плитам бункера, направляясь в конец коридора, где находилась узенькая дверь, на которую Шура ни разу не обратила внимания, зато теперь услышала из-за двери приглушенный голос. Прислушавшись, она поняла, что это голос диктора, он по радио освещал ход событий на фронтах.
Она вначале страшно удивилась, а затем испугалась, боясь, что ее здесь увидят, но продолжала слушать хорошо поставленный мужской голос, который говорил на русском языке. Она так давно не слышала русской речи, что, страшно растрогавшись, мало понимала, о чем говорил диктор, но потом волна радости охватила все ее естество, а голос показался ей самым родным, близким на всем белом свете. Голос говорил, что немцев теснят на всех фронтах, что военные действия ведутся на территории Германии. Она долго здесь находилась, слушала сводки с фронта. Но, вдруг, щелкнуло, и голос за дверью умолк, послышалась не понятная возня, шум шагов. Шура отъехала на колясочке в темный угол и во время, в проеме двери появился пан Страшевский. Ее удивило, что он знает русский язык, даже обрадовало, он ей стал ближе, чем раньше. С этого дня у нее появилась возможность узнавать о ходе военных событий, радоваться русской речи. Ей казалось, что она общается с соотечественниками, а то, что немцев теснят удваивало ее радость, она думала: « Я все равно пропащая, никому не нужная. Ну кто я? Получеловек? Что я успела сделать? Ничего. Но я рада, что другие будут жить, что моя Родина будет свободной, что ее не будет попирать немецкий сапог. Моя Москва будет сама собой. Никто не увезет золото с ее златоглавых соборов, не опустошит музеев, библиотек. Ее мысли нарушила Марта: «Пани Александра. Куда вы запропастилась, уже давно пора завтракать,- но взглянула в ее глаза, удивилась, - Что с вами? Вы вся сияете, поделитесь своей радостью, может быть, и я порадуюсь». Шура отмахнулась от назойливой польки. «Какая там радость? Не видите, что еле выношу страшный зуд в ногах».
Озабоченная Марта смотрела на нее с некоторым подозрением, но подумала: «Какая может быть радость у бедняжки без ног? Что это я?» Так в затворничестве, труде, других бытовых хлопотах проходили дни бедной девушки, освещенные радостью от узнавания новостей с фронта, ведь она мысленно общалась со своими.
По сводкам с фронтов война казалось, близилась к концу, ведь почти вся Европа освобождалась от немецких захватчиков, и бои уже шли на территории Германии.
На лицах своих хозяев Шура видела озабоченность, в общении с ней сквозящую неискренность и это ее угнетало: «Что их беспокоит? Почему они от меня что-то скрывают, ведь за эти годы, что я живу у них, хотят они того или нет, я стала фактически членом их семьи».
Однажды ей удалось подслушать разговор Страшевских.
- Помнишь, дорогая, ты сердилась вначале, что я приютил эту русскую, а теперь ишь, как она тебе пригодилась, да может быть, еще пригодится».
- Я сердилась, да я все силы отдала, чтоб ее спасти от смерти, это ты, мой друг, напрасно. Я ее полюбила и ничуть не жалею, что мы ее приютили.
Шура, занятая работой, вскоре забыла об этом разговоре, тем более, что она не любили подслушивать чужие разговоры, это вышло случайно.
Пани Ядвига готовилась к праздничному показу мод, хоть это делалось у нее дома, она считала это очень важным мероприятием. Ей доставляло большое удовольствие видеть радость на лицах модниц. Вот поэтому она и загрузила Шуру работой, которой приходилось работать вечерами, не имея ни минуты свободного времени.
Однажды, после того, как в верхних апартаментах дома Страшевских слышались песни, музыка, к ней заявилась пани Ядвига радостная, смеющаяся с ворохом цветов, коробкой дорогих конфет, что было в те времена большой редкостью.
- Пани Александра, дорогая! Как я счастлива, все прошло просто отлично, - говорила она с восхищением о своем домашнем показе мод – А это тебе, дорогая, - поднесла она букет роз коробку с конфетами Шуре, расцеловав ее в обе щеки.
Шура, сидя в своей колясочке, держала пышный букет роз, радовалась, сто ее труд оценили, что он кому-то доставил радость. Успех пани Ядвиги, это ее - Шуры успех, а еще ее радовали вести из фронта. Фашистов уже добивали в их логове. Украдкой наблюдая из-за букета за пани Ядвигой, она вновь уловила непонятную озабоченность в ее лице.
«Что она скрывает от меня, что ее беспокоит?» Спросила:
- Что-то случилось, пани Ядвига? Вы что-то скрываете, может, я являюсь причиной ваших домашних неурядиц?
- Нет, нет, как ты могла такое подумать? Все хорошо, все просто отлично, если не считать военного времени, ты не беспокойся, милая девочка, это все пустое, наше семейное, это тебя не касается и не должно беспокоить. Она еще немного посидела, пытаясь беззаботно болтать, но это у нее явно не получалось, а вскоре ушла, ссылаясь на дела.
Шура, вновь оставшись одна, целый день просидела за столиком, специально купленным для нее, занимаясь эскизами новых воротников, карманов, аппликаций.
День прошел, как все дни, проведенные в бункере – завтрак, обед, ужин, гигиенические процедуры.
Как всегда ночью одна в бункере, она уже собиралась лечь спать, уж очень ныло натруженное тело. Как, вдруг, услышала возню у двери бункера. Ее кто-то явно открыл и осторожно, стараясь ничего не задеть, свет почему-то не включил, ощупью пробирался вглубь бункера.
Шура замерла, прислушиваясь к шагам, определила, что людей двое, затаилась, притворяясь спящей.
Успокоившись, она услышала разговор двух мужчин на польском языке. Старший молвил: «Не беспокойся, сынок, ты здесь в полной безопасности, здесь тебе ничего не грозит. Переждешь трудные времена, а там видно будет. Ведь людям не докажешь, особенно сейчас, что ты делал нужное дело. А сейчас отоспись, отдохни, главное ни о чем плохом не думай.
Нет таких дел в жизни, которых невозможно было бы повернуть выгодной стороной, а тем более представить подвигом.
Сын молчал, видимо думая о своем.
Шура превратилась вся в слух, нервы натянулись струнами, она боялась пропустить хотя бы слово из их разговора.
Они же прошли по коридору и остановились у каменной стены бункера, прямо напротив ее комнатушки.
Пан Страшевский посветил карманным фонариком, нажал на черную кнопку, которую Шура часто видела, даже не подозревая, что, нажав ее можно раздвинуть стену, так вот стена раздвинулась, а за ней показалось просторное помещение, освещенное голубоватым светом.
- Вот тут, сын, и переждешь, пока все уляжется, подождем лучших времен.
Комната за стеной оказалась просторной, богато обставленной. Особенно Шуру потряс шкаф, набитый книгами в дорогих обложках.
- Вот это да! Вот чего мне не хватало! Она чуть не выдала себя при виде такого богатства. Она очень соскучилась по хорошей книге. У них с бабушкой тоже было много книг, и она приохотилась к чтению.
Мужчины не подозревали, что за ними наблюдают, вошли в помещение, и каменная стена за ними закрылась.
Шуре больше ничего не удалось ни увидеть, ни услышать, она только жалела, что не разглядела лица молодого пана.
Пан Страшевский вскоре ушел. В подземных помещениях воцарилась обычная тишина.
Шура, потрясенная увиденным, долго не могла уснуть. Но молодое, натруженное тело требовало отдыха, и она погрузилась в благодатный сон. Стоило ей уснуть, как она снова увидела во сне, уже знакомый по предыдущему сну сад. Но самым удивительным было то, что сон повторялся в точной последовательности с теми же действующими лицами. Она узнала те самые места, что видела в том сне. Очнувшись ото сна, она все думала, - что бы это означать. Удивительным было то, что она на этот раз запомнила самого красавца, являвшегося ей во сне, его лицо, улыбка, весь его облик, так и всплывали перед глазами. У нее почему-то страшно разболелась голова, и она день напролет провела в постели, в приятных воспоминаниях о вчерашних ночных событиях, а так же не забывая своего повторяющегося сна. Марта принесла завтрак намного позже обычного, ничуть не удивившись, даже не заметив, что Шура лежит в постели, до сих пор неодетая. По ее лицу было видно, что она чем-то приятно встревожена, что ее приобщили к приятной для нее тайне. Она являла собой дебелую, неповоротливую, перезрелых лет, девицу, любившую много, громко говорить, а ее громкий смех иногда Шуру просто выводил из себя. Всегда неряшливая в это утро, наоборот, была тщательно одетой, во всяком случае выглядела аккуратной, внутренне подтянутой.
- Ты сегодня нарядная, - заметила Шура, видя в ней приятные перемены.
Марта, приятно удивившись комплементом по своему адресу, заулыбалась, показывая свои лошадиные зубы. Когда она улыбалась, то были видны ее красные, воспаленные десны, что делало ее улыбку просто отвратительной, а лицо еще более некрасивым.
Вскоре она ушла. Шура, оставшись одна, превратилась в слух, но в бункере было тихо, как всегда, и она, даже стала думать, что ей все пригрезилось прошлой ночью.
« Сидя годами взаперти, можно и утром тронуться. У меня точно крыша поехала, то голоса слышу, то вижу, как стены раздвигаются, то каждую ночь повторяются одни и те же сны. Точно я начинаю сходить с ума, - думала девушка, стараясь переключиться на другое и незаметно уснула.»
Проспав до вечера и всю ночь, она проснулась на рассвете от голода и услышала своим обонянием непривычно вкусные запахи пищи, шедшие из кухни. Дверь к ней в комнату была распахнута настежь, поэтому был виден стол, довольно большой, крытый нарядной скатертью, он стоял прямо, можно сказать в коридоре, или вестибюле, ну это не важно.
«Что могло случиться? Кого ждут хозяева? Ведь стол явно для гостей?» - думала Шура, все еще находясь в постели, и когда вошла в ее комнатушку Марта, то она притворилась спящей.
- Пани Александра, что это вы еще в постели? Пора, милая, вставать. Сегодня у нас маленький семейный праздник. Вернулся домой сын пани Ядвиги и пана Страшевского, и они устраивают в его честь завтрак. Ведь Стефан так долго отсутствовал.
«Так вот оно, что? Слава богу, у меня с головой все в порядке, ведь я не ошиблась в ту ночь», - думала Шура, притворяясь, что никак не может проснуться.
Марта без устали болтала, в то же время, прибираясь в комнате Шуры. Подошла к платяному шкафу, где на вешалках висели платья девушки, придирчиво стала их рассматривать. У Шуры был довольно богатый гардероб, пани Ядвига не скупилась на ее наряды, так ей казалось, она хоть кое-как оплачивает труд своей компаньонки.
Марта достала белое кашемированное платье, которое выгодно облегало бюст девушки и всю ее до пояса фигуру, ниспадая пышными складками до самых кончиков ног. Шура шила свои платья по своему росту, учитывая ноги, а так же высокий каблук. Платье было украшено дивной художественной вышивкой вокруг горловины и рукавов.
Шура, глядя на выбор Марты, отрицательно покачала головой, не понимая, почему она должна наряжаться в будний день.
Марта настояла на своем, говоря, что пани Ядвига приглашает ее (Шуру) к семейному столу и велела одеться понарядней и в то же время скромно. Вы в этом платье смотритесь, именно, так, пани Александра, уж поверьте мне.
-Кто этот пан Стефан, в честь которого устраивают завтрак?- с притворным безразличием, спросила Шура.
- Как, разве вы не расслышали? Я же сказала, сын наших хозяев. Видели б вы его – истинный красавец, - и ее белесые глаза так и закатились, заблестели похотливым огнем. Она, как и все полячки была довольно похотливой, не умела скрывать своих чувств.
- А-а-а! – протянула Шура, зевая, - да, да! Припоминаю, точно слышала от пани Ядвиги, что у них есть взрослый сын, но где же он пропадал, до сей поры? Во всяком случае, о нем мало вспоминали.
- Где он находился, спрашиваете? – на войне. Где же ему было еще находиться, как не на войне? Воевал против фашистов, во всяком случае, я так думаю, ведь война, - с пафосом почти выкрикнула Марта. В данное время дома. На днях вернулся, - почему-то снизив голос до полушепота, она произнесла. – Он сейчас в бункере, я ему завтрак подавала в комнату, что напротив вашей. – Спохватившись, что сболтнула, может быть, лишнее, стала так же непринужденно болтать о другом.
Шура, довольно изучив характер Марты, улыбнулась, думая: «Так вот от чего у тебя так блестели глаза вчера».
Марта все еще о чем-то говорила, расчесывая Шуре волосы, поправляя платье, но девушка ее уже не слушала, ожидая выхода к столу.
Наделенная от природы яркой красотой, она не нуждалась в косметике, но духи любила. Их ей иногда, дарили, как пан Страшевский, так и пани Ядвига, подметив за ней эту невинную слабость. Хоть она редко душилась, но любила понюхать содержимое флаконов, просто полюбоваться на красивые флакончики. Сейчас же, по случаю этого маленького семейного праздника, попросила Марту подать ей флакончик с ее любимыми духами и чуток подушила бархатку у себя на груди, под платьем.
Марта посмотрела на нее, и женская зависть закралась в сердце. Шура выглядела просто великолепно.
«Так бы и опрокинула эту красоту, - подумала оделенная природой молодая женщина, но вздохнув, взялась обеими руками за кресло-каталку, в которой должна была сидеть Шура за праздничным столом.
В помещении вестибюля витали приятные ароматы, приподымая настроение. На столе, сервированном шестью приборами, стояла ваза с полевыми цветами. Аромат букета вызвал у Шуры воспоминание о далекой Родине, она даже прослезилась. Все остальное – приборы, ведерко со льдом, где полулежала запотевшая бутылка с шампанским, почти не заметила.
В это время входная дверь бункера широко распахнулась, впуская пани Ядвигу с парой незнакомых Шуре людей.
Первой вошла в помещение, изящной внешности, молодая женщина, с красной копной волос на удивительно красивой голове. Она нежно улыбалась, но увидев Шуру, тут же улыбка слетела с ее уст, явно растерявшись, потрясенная ее потрясающей, немного диковатой красотой, она так и стояла.
Шура, давно не видевшая других людей, кроме тех, что ее повседневно окружали, страшно растерялась, напряглась, удушливый румянец разлился по ее лицу, сразу вспомнила о своей тяжкой увечности, и стала еще красивее.
До этой минуты, она спокойно сидела в кресле, опершись руками о подлокотники, смотрела грустно в одну точку, сдвинув свои соболиные брови к переносице, желая одного, чтоб этот завтрак быстрее закончился. На ее смуглом, овальной формы лице, в ореоле иссиня черных волос, ничего нельзя было прочесть, но ее изящные руки с длинными тонкими пальчиками выдавали ее напряженное душевное состояние. Она чувствовала себя так, будто совершает что-то претившее ее натуре. Красно-волосая красавица, изящно наклонив к правому плечу свою маленькую головку, сияя узкими, слегка раскосыми, черными, кА ягоды спелой смородины, глазами рассматривала, по мимо своей воли, несчастную девушку, словно просвечивая рентгеновскими лучами. Ее тонкие, чувствительные губы, оттененные тонким пушком над верхней губой, нервно подрагивали. Стройную, изящную фигуру выгодно облегало платье, цвета морской волны, гармонируя с цветом кожи ее лица, спелого персика. Вздернутый, тонкий носик, темные брови в разлет придавали ее лицу надменное, высокомерное выражение, женщины, которой все позволено.
Шура постепенно успокоилась, узнав в наряде незнакомки, платье своей работы. Всплыли в памяти те долгие часы, когда она трудилась над его деталями, желая заставить ткань сниспадать волнами, что давало иллюзию более пышной груди, чем она была на самом деле. Бриллиантовая брошь, стянув шелковую ткань чуть ниже плеча, помогла ей в этом.
Спутник молодой пани выглядел слегка полноватым, среднего роста, на вид лет сорока. Легкий бежевый костюм из тонкой шерсти сидел на нем безукоризненно, скрывая чуть наметившееся брюшко, любителя поесть. Продлинноватую голову покрывала обширная, во всю макушку плешь, которую он пытался скрыть длинным отращенным коком. Зеленые на выкате глаза и крючковатый нос делали его похожим на филина. Позади этой пары шла пани Ядвига, умело скрывавшая свой истинный возраст, простотой изящных нарядов. Одной Шуре было известно, чего ей стоила эта казавшаяся простота. Зато пани Ядвига выглядела на неполных тридцать два в своих полных сорок пять. Никто не мог поверить, что ее сыну исполнилось двадцать семь лет.
Марта как-то рассказала Шуре, что когда пани до войны выезжала в свет со своим сыном, то их принимали за влюбленную парочку, что не могло не льстить пане Ядвиге, но злило ее сына.
Молодая пара оказалась близкими родственниками панов Страшевских. На вид юная пани, являлась младшей сестрой пана Страшевского от второго брака его отца, с модным тех времен именем, Каталина.
Ее супруга, опытного бизнесмена, пана Волоского, в домашних условиях звали Зюзей.
Супруги вот уже несколько дней жили в доме пана Страшевского, так как их дом был полностью разрушен гитлеровскими бомбежками. Приблизившись к столу, пан Зюзя, бесцеремонно уставился на Шуру своими глазами филина, но, спохватившись, вежливо улыбаясь, раскланялся, пытаясь пропустить свою супругу вперед, хотел усесться за стол, но она не пожелала пока сесть за стол, желая ознакомиться со столь странными катакомбами, так она выразилась в адрес бункера.
Отведя Ядвигу в сторону, она тут же задала вопрос:
- Кто эта дикарка, со столь оригинальной красотой, и как она смела, не приподняться нам на встречу? Кто эта гордячка?
- Не сердись на нее, моя дорогая, у нее есть на то веские причины. Все узнаешь в свое время. Она чудная девушка, вот увидишь, ты ее полюбишь и подружишься с нею.
В это время Шура услышала шум шагов приближающихся мужчин. Они медленно шли, о чем-то беседуя меж собой, шли от той двери, где ей украдкой приходилось слушать сводки с фронта.
Она сидела так, что видеть приближающихся могла, но явно слышала, что они идут по направлению к столу, и это ее почему-то волновало. Она узнала по голосам пана Страшевского и его сына. Ей запомнился тембр его голоса той ночью, когда он занял сокрытую за каменной стеной комнату, напротив ее комнатушки.
При виде Каталины и пана Зюзи, мужчины радостно засмеялись, ускоряя шаг.
Пани Каталина, приветливо улыбаясь, оценивающе осматривала племянника, побежала навстречу. Шуре было слышно, как они расцеловались, затем пан Зюзя и племянник весело тузили друг друга, обмениваясь разного рода глупостями, какими обычно обмениваются при встрече.
Пан Страшевский тихо упрашивал их, перестать баловать:
- Хватит вам, перестаньте, вы здесь не одни!
Только сейчас пан Стефан увидел за столом со спины Шуру.
Стоя у стола, он думал: «Почему родители его не предупредили, что будет гостья? Кто эта панночка?» Немного шокированный ее присутствием, он смотрел в пол, затем пытался сесть за стол, но когда поднял глаза и увидел воочию девушку столь оригинальной красоты, то был приятно удивлен.
Пани Ядвига непринужденно представила их друг другу, просто назвав Шуру – Александрой, а сына своего Стефаном.
Стефан, отлично сложенный, физически силен, подтянут, видимо сказывалась военная муштра, долго не мог оторвать своих карих с золотинкой глаз от смуглого лица с темными, затягивающими в себя глазами девушки. Его густые, черные брови восхищенно поднялись, образовав неглубокие морщинки на высоком челе, ноздри тонкого носа слегка раздулись, а крепкие мужские губы разжались в обворожительной улыбке. Круглая, довольно крупная голова, с коротко остриженными волосами, темно-каштанового цвета, наклонилась на бок, что он делал, когда бывал так потрясен, что забывал сам себя.
Пани Ядвига, удивленная столь большим интересом своего сына к Шуре, предложили сесть за стол. Чета Страшевских уселась по одну сторону от Шуры, Волоских по другую, а Стефану, ничего не оставалось, как сесть напротив столь очаровавшей ее панночки.
Шура, видя на протяжении многих лет затворническую жизнь, не видевшая молодых людей, была польщена столь пристальным вниманием со стороны такого шикарного, молодого пана. Не умея владеть собой в таких ситуациях, удушливо покраснела, горячая волна ударила в голову, по всему телу побежала непонятная дрожь, помимо ее воли с нею творилось что-то невообразимое. Но, вспомнив о своей физической неполноценности, почувствовала себя так, будто ее облили ледяной водой. Замкнулась в себе, стала безразличной ко всему происходящему, совсем не слышала, о чем говорят окружающие ее люди. Ведь она была женщиной, женщиной, не растратившей своих чувств, своей способности любить, страдать. Что из того, что ее тело без ног, зато оно у нее шикарное, молодое, и все его составляющие – лицо, шея, руки, грудь, живот, не говоря уже о том, что находится у каждой женщины ниже живота. Ничего не поделаешь, такая уж женская природа, и она помимо своей воли бессознательно тянулась к этому физически сильному, такому утонченному человеку, противоположного ей пола. Как и все Евины дочки, просто не могла не заметить его натренированного тела, любуясь игрой мышц под тонкой безукоризненной белой рубашкой. Не в силах оторвать глаз от его белозубой улыбки, от темных волос курчаво выглядывавших из расстегнутого ворота рубахи, от изящных сильных рук, так умело и свободно, державших нож, вилку, явно чувствуя зной, исходящий от его тела. В ней проснулась прародительница Ева, готовая даже съесть запретный плод.
Сидящие за столом, казалось, ничего не замечали, вели себя по-родственному раскованно, ели, пили, шутили, смеялись, в то время, как бедная Шура потеряла покой, в страшном волнении, не забывая о своем увечьи, чувствовала себя, как на раскаленной сковороде.
Слегка охмелевший, от выпитого шампанского, пан Стефан, все с большим интересом рассматривал ее, все чаще останавливал взор на ее, цвета спелой вишни, губах, на высокой, не тронутой, девичьей груди.
Она чувствовала себя нелепо, но ничего не могла с собой поделать, млея под его взглядом, не в силах унять разгоравшийся в ее теле пожар, а подняться и уйти не могла по той причине, что не имела ног.
Встретившись с ним взглядом, она вновь покраснела до корней волос, вновь горячая волна разлилась по телу, охватывая те места, где должны быть ноги, и она невольно пошевелила ими, еле сдержав крик от острой боли, страшной физической боли.
Пани Ядвига, понимая, что твориться с Шурой, заторопилась, ссылаясь на срочные дела, о которых в спешке позабыла.
Шура, находясь на грани обморока, неслыханно обрадовалась, благодарно той улыбаясь.
Пани Ядвига ушла, за ней все остальные, Шура осталась сидеть на прежнем месте, прямо таки внутренне опустошенная. Пришла Марта, показавшаяся злой, грубой, ни весть чем расстроенной, ни говоря ни слова, грубо увезла Шуру в ее комнатушку, и тут же ушла, оставив девушку в недоумении, своим поведением.
Шура, оставшись один на один с собой, со своими мыслями, со своей болью, как физической, так и душевной, поддалась своему горю, долго, безутешно плакала, проклиная тот день, в который родилась. Она даже стала обвинять себя в смерти матери, затем стала упрекать себя в том, что может быть, и товарищей своих погубила. «Вот мои грехи. Кто я? Несчастная калека. Я всюду сею горе. Не будь меня в группе радистов, может быть они остались бы живы. Только я являюсь виновницей их смерти. Я ничего не сделала для освобождения своей Родины. За свои грехи мне придется нести божью кару в полном одиночестве, в муках, страданиях. Кому я нужна такая безногая калека, а еще размечталась…. Вдруг? « - и снова кто-то по голове стукнул. Вспомнила Стефана, она страшно испугалась, узнав в нем красавца из своих снов.
- Сон, Бог ты мой! А я то все время думала, где же я его видела?
Успокоившись, она подробно, как в фильме, кадр за кадром восстановила в памяти свой повторяющийся сон. Сомнений быть не могло – Стефан являлся ей во снах. Ну, хорошо! Молодой красавец – это Стефан, но при чем тут львица, газель? И вот кто, именно львица, или газель никак не могла вспомнить.
Прошло несколько, нескончаемо длинных дней, похожих один на другой, как близнецы, а в бункере ничего не изменилось, если не считать Марты, которая стала отчужденной, почти враждебной по отношению к Шуре. Молча приносила завтрак, обед, ужин, ставила на столик и уходила.
Шура, переживая глубокое душевное потрясение, вызванное встречей со Стефаном, слава богу, оправилась, принялась за работу, стараясь как можно реже покидать свое маленькое гнездышко, где чувствовала себя в безопасности.
Марта, теперь помимо Шуры обслуживала и молодого пана Стефана. В ее обязанности входило приносить ему пищу, питье, менять белье, убирать помещение.
Стефан при ее появлении становился веселее, оживленнее, пытаясь заговорить о Шуре, но Марта зло отмалчивалась, обижалась, начинала греметь посудой, больше обычного, что его удивляло, но не мог понять, что происходит с работницей.
Однажды, невзирая на ее кажущуюся неприязнь, то ли по отношению к нему, то ли к Шуре, он вручил ей записку и велел передать Шуре.
Марта, исказив свое и так не привлекательное лицо, грубо оттолкнула его руку с протянутой запиской, заплакала и выпалила в лицо:
- Зачем Вам нужна эта безногая! Да! Да! Безногая калека! Посмотрите на меня. Я здоровая, а Вам подавай безногую! Вам нужна калека!
Стефан, глядя на нее, так растерялся, что выронил письмо на пол. Он никогда не дума о Марте, как о женщине, а когда первое потрясение прошло, то его стошнило при виде ее гнилых зубов, впалой груди, кривых ногах и дрожь отвращения еще долго его не покидала: «Молодая, здоровая» - передразнил он ее. Но ее сообщение о том, что пани Александра безногая калека, его потрясла до глубины души. Вспоминая ее неземную, но роковую, не то трагическую красоту, взгляд ее огненных глаз, ласковую, такую сияющую улыбку, он почувствовал себя обманутым, заплакал, как могут плакать только влюбленные мужчины, но почему-то больше напоминал ребенка, у которого отняли красивую игрушку. Привыкший к легким победам над женским полом, к тому, что ни в чем не получал отказа с детских лет, он почувствовал себя прескверно, но не от жалости к безногой красавице, а к себе.
- Погодите, - думал он о родителях, - Придет время, и я вам отомщу за эту насмешку, - думая, что над ним посмеялись. В то время, как над ним никто и не думал смеяться. Просто зная капризный характер своего сына, как он любит свободу, независимость, они решили облегчить его пребывание в бункере, решили свести с Шурой, но не хотели выставлять ее увечье на показ, даже не намекнули ему о нем. Пусть мол, сам убедится, что она интересный собеседник, да такой, что он и не заметит ее физической ущербности. Но они даже не подумали, что необычная красота девушки произведет на их сына такое большое впечатление, нежели они рассчитывали. Он, как не странно, влюбился по настоящему, и кажется впервые.
Прошло еще несколько дней, нервы пана Стефана напряглись до предела. Он уже не считал зазрением любовь к безногой калеке, и когда к нему зашел на днях отец, он незамедлительно спросил об успехах медицины, о том, на сколько она продвинулась, чтоб пришить человеку потерянную конечность, будь она его, или донора.
- Не понимаю, о чем это ты, сынок, толкуешь? Зачем это тебе? С каких пор это стало тебя интересовать? Тебе, что уже все известно?
- А теперь я тебя не понимаю, что мне должно быть известно?
- Не уходи от разговора, говори прямо, тут чужих нет. Ты, сынок, говоришь об Александре? Не буду врать, не родился еще тот хирург, который бы мог это сделать. Мы сами того страстно желаем.
Стефан угрюмо молчал. Было видно, что с ним что-то происходит. Ему хотелось заплакать, прижаться к отцу, как в детстве, и чтобы его пожалели, успокоили, но поборов себя, как можно спокойнее, спросил:
- Папа, кто эта Александра? Откуда она здесь? Что она здесь делает, почему вы ее прячете и от кого? Кто она – цыганка, испанка, полька, русская, в конце концов, должен же я знать!
- Сынок, вот, что я тебе скажу, не принимай так близко к сердцу чужую судьбу. Она упала с неба к нам во двор. В одну из далеких ночей, еще в начале войны, мы услышали пулеметную очередь, лай собак, гитлеровскую речь, а утром слуги нашли в снежном сугробе, закоченевшего парашютиста. Парашютист оказался девицей, вот так она оказалась у нас. Мы ее спасли, как умели, ведь человек, чужой, свой, все едино человек. Вот, жаль ноги не смогли ей сохранить. Они у нее отморозились, затем гангрена, пришлось ампутировать. Насколько мне известно, в ее жилах течет не цыганская, не испанская, и даже не польская кровь, а русская, ведь в бреду она заговорила на чистом русском языке, хотя с тех пор ни разу не обмолвилась, - так, что кто она есть на самом деле одному Богу известно. Мы же сами об этом с нею не заговаривали. Зачем? Она и так столько перенесла страданий, потеряв обе ноги. А так сам ты убедился – говорит прекрасно по-польски, досконально знает обычаи. Может и есть полька на самом деле. Посидели еще немного отец с сыном, каждый, думая о своем, затем отец поднялся, посмотрел внимательно сыну в глаза:
- Смотри, сынок, не натвори глупостей, не вечно сидеть тебе здесь, - и ушел.
Стефан снова остался один, так и продолжал сидеть, не двигаясь, но не в силах совладать со своими чувствами, не мог ни о чем думать, кроме Шуры. Перед его воспаленными глазами плыло ее лицо, то вспыхивал взгляд, изгиб шеи, то кивок головы, то руку. Как она поправляет волосы, то сияющие глаза, то ослепительную улыбку. Ясно видел темную родинку на левой щеке, то на шее, а ее по-детски пухлые губы, вишневого цвета, вызывали помутнение в мозге. Ее дыхание так ясно слышалось, будто она стояла рядом.
- Что за наваждение? Я схожу с ума. Никогда бы не подумал, что можно вот так вот полюбить с бухты-барахты, можно сказать. Надо взять себя в руки, ведь я уже не мальчишка – но страдания только усугублялись, и он ничего не мог с собой поделать.
Стена раздвинулась, вошла Марта, принесла ужин, взглянув на него, поразилась, произошедшей в нем перемене.
Он же даже не заметил, что кто-то есть в его комнате. Шокированная его поведением, служанка ушла, шумно задвинув стену.
Шура в этот вечер чувствовала себя несносно, ей стало казаться, что перед нею навечно захлопнулись двери в мир, и что она никогда не увидит ни неба, ни солнца, никогда не услышит пения птиц, завывания вьюги, с сожалением думала о том, уже далеком времени, когда ее нашли окоченевшей в сугробе, и жалела, что не умерла тогда. Вдобавок ее мучил зуд в ампутированных ногах . Она невольно протягивали к ним руки , но наталкивались на пустоту и от этого ещё становилось тяжелее, на глаза навертывались слезы, а она их даже на замечала. Укутав культи ног в пуховое одеяло, она понуро сидела в своем низеньком кресле, со страхом думая о надвигающейся ночи. Кресло в котором ее вывозили к завтраку в тот счастливый, или злополучный день, стояло напротив, освещенное бликами света сквозь ситец абажура. В комнате стояла почти гробовая тишина, сюда не проникал ни один звук извне. Шура хоть уже и свыклась с этим, но все равно испытывала страх одиночества в этом склепе. Сюда даже мыши не забегали. А как бы хотелось, чтоб хоть мышка где-то заскреблась, грызя корочку хлеба, хоть бы засверкал сверчок. Но и этого не было, только давящая, зловещая тишина. Шура уже набиралась сил, чтоб перевалить свое, ставшее за день тяжелым, тело в постель накрыться одеялом и попытаться уйти от действительности. В это время уши, привыкшие к тишине, различали скрежет раздвигающейся стены, напротив ее комнатенки, затем уловили шум шагов. К ней кто-то приближался, то есть к ее месту обитания. Она напряглась, не в силах сдержать чувств радости и одновременного страха, сердце учащенно забилось, на глаза навернулись слезы. Она не могла понять, что с ней твориться, но сердцем чувствовала, что он страдает, тянется всеми помыслами души к ней, как и она к нему.
« Он страдает, я это чувствую, знаю, мне внутренний голос говорит, наверное, у меня появилось шестое чувство, и оно мне подсказывает, что это так. Вот он уже близко, идет ко мне, потому что так должно быть, так назначено судьбой» - за какое-то мгновение она передумала больше, чем раньше за год. Время, словно остановилось для нее, все ушло в прошлое, оставив этот один миг. В этот – то миг дверь ее, комнаты заскрипела, ее толкали, пытаясь открыть. Ею обуял страх – неужели, я ее заперла, или это проделки Марты? Но страх оказался необоснованным, дверь под напором поползла в сторону, и на пороге появился ОН. Он, ее Стефан. Она его считала своим и ничего не могла с этим поделать. А он стоял осунувшийся, побледневший, но такой красивый, близкий, родной, как никто во всем белом свете.
Ему показалось, что она сидит с подогнутыми под себя ногами. Их глаза встретились и этот взгляд сказал все. В нем передалась та душевная боль и сила любви, которую они оба испытывали. Ему передалось ее страшное одиночество, и она стала ему еще ближе, еще родней. Из его груди, невольно вырвался стон отчаяния, боли, жалости, любви, а так же страх быть непонятым, что ему могут указать на дверь, а ему так не хотелось возвращаться в свою опостылевшую тюрьму, и он продолжал стоять, прося пощады, напоминая любимого щенка, преклоняясь перед большой внутренней силой этой многострадальной женщины, на вид почти девочки. Ему не указали на дверь, а предложили сесть в кресло напротив. Он послушно, как школьник, уселся напротив Шуры, испытывая страшное волнение, которого не испытывал ни перед одной варшавской красавицей.
Глядя друг другу в глаза, они молчали, прислушиваясь к душевному состоянию, друг друга. Казалось, никто не осмелится заговорить первым. Но, как ни странно, Шура нарушила молчание. Ее задушевный голос потряс его вновь своей теплотой, душевностью, нежными мелодичными нотками, в которых угадывался настрой ее настрадавшейся души. До него донеслось:
- Стефан, думаю не будете обижаться, если я так вас буду называть?
Он ошалело смотрел на нее, а она продолжала:
- Хочу задать вам один единственный вопрос – Зачем я вам? Зачем вы так со мной? Я несчастная безногая, да я калека без обеих ног, забытая богом и людьми. Вы же опытный, не возражайте, опытный! – прикрикнула она, видя, что он пытается возразить, - Итак, вы опытный в любовных делах мужчина, по всей видимости, пережили не один роман. Зачем я вам, для очередной интрижки? А обо мне вы подумали? Подумали, что у меня есть сердце, душа? Подумали, что происходит со мной? –говоря в таком с ним тоне, она нахмурила свои соболиные брови. Щеки пылали багровым румянцем, глаза горели внутренним, страстным огнем, меча черные молнии.
Стефан заворожено смотрел на нее, не понимая ни единого слова.
Она не заметила, что, страшно волнуясь, перешла на русский язык, начисто позабыв польский.
Он растерянно смотрел на нее, ничего не понимая из сказанного. Он не владел русским языком, да еще вдобавок с ним происходили невероятные вещи и не свойственные его натуре. Он был на столько влюблен, испытывая такие глубокие чувства, каких ему еще не доводилось испытывать ни к одной из женщин. Но с другими все было иначе, можно было просто картинно стать на колени, поцеловать ручки, ножки, чего тут нельзя, в данном случае даже намек, да и вообще все вовсе не так, как бывало с легкомысленными красавицами. Перед ним стояли горящие, выражающие душевное страдание, глаза девушки, в которых отражалась вся боль этой женщины, по сути девочки, не знавшей мужской ласки в свои двадцать с лишним лет. И он все смотрел на ее облик, словно желая запомнить на всю оставшуюся жизнь, затем молча, пошатываясь, как пьяный, вышел из комнаты, оставив ее одну.
Шура сидела все в той же позе, казалось, не замечая его ухода, но это только так казалось, на самом деле его уход вызвал бурю негодования в ее неопытной в любовных делах душе. Она поняла, что говорила на русском языке, и страшно негодовала на себя: « Что я наделала? Надо быть настоящей дурочкой, чтоб так опростоволоситься». Но делать было нечего, главное то, что она осознала, что любит его и любит с тех пор, как увидела во сне, думая:
- Может, судьба повернулась, наконец, ко мне благосклонно, послала мне любовь, а я сама все испортила. Может быть, у него возник по отношению ко мне кое-какой интерес, так как здесь нет других женщин, а ему скучно, то это его дело. Но я, я настоящая буду дуреха, если упущу этот шанс. Шанс испытать любовь, быть любимой. Что дальше произойдет – не важно. Но сейчас, если только он этого пожелает, то есть захочет меня осчастливить, я от этого не откажусь. Приму его всем сердцем, всеми своими помыслами, лишь бы испытать, пережить это великое чувство, хоть буду знать, что все-таки не даром родилась.
Стефан же не понимал, что с ним творится, ему хотелось биться головой о стену, кричать, выть волком. Он спрашивал себя: «Почему это случилось, именно сейчас, и именно, здесь в этом каменном мешке? Почему возникло это всепоглощающее чувство, именно, к этой несчастной девушке. Но почему? Как теперь быть? Как поступить? Ведь я не вижу никаких преград для любви между ними. Почему она их видит? Говорят любовь слепа. Это так. Ведь я не вижу в ней увечности, для меня она самая лучшая девушка в мире. Богиня. Я еще никого так не любил, не желал, ни к кому не испытывал столь искренней страсти. Если надо будет умереть, чтоб быть с нею, то я согласен, но она станет моею.
Когда утром, в его затворническую келью вошла Марта, то он так и сидел, видно было, что в постель так и не ложился. Бледное лицо с синими кругами под глазами, горящие огнем глаза, выдавали его душевные переживания, борьбу с собственной совестью, борясь с нахлынувшими чувствами, он корил себя, боясь воспользоваться доверием, незнанием жизни этой беззащитной, несчастной девушки. Но тут же сам себе возражал: « Может статься, что я наоборот сделаю ее счастливой. Ведь я ее люблю по-настоящему. Во всяком случае со мной такое впервые. Но как это объяснить родным, в конце концов - шурину, тете?»
Когда в обед Марта увидела нетронутым завтрак, а его все в той же позе, в которой оставила утром, то за злорадствовала: «Это все безногая. Да, видно не зря наказал ее Бог» - и возненавидела Шуру лютой ненавистью, позабыв начисто добро, которое та ей делала.
В душе Стефана происходила неразбериха. То он называл себя подлецом, то прислушивался к своему душевному состоянию, считал себя жертвой сложившихся обстоятельств, сам, не понимая, как, как он, светский лев, перед которым не могла устоять ни одна красавица, ни одна из влиятельных особ, так мог влюбиться в это безногое существо?»
«Это какой-то злой рок! Игра злой судьбы, может божья кара за грехи, - но как бы там ни было, он ничего не мог с собой поделать, был не в состоянии справиться с нахлынувшим на него чувством, не мог избавиться от сияющих глаз, лучезарной улыбки, ее необыкновенно красивого лица. Его бросало в дрожь при одном воспоминании об изгибе ее грациозной шеи, ложбинке в вырезе ее платья, не говоря уже о девичьих грудях, так невинно трепетавших под тканью платья. Он не переставал думать о ее дивных родинках на щечке, на шее, которые ему казались эталоном женской красоты, не мог избавиться от ее нежного, мелодичного голоса. Вдруг ему почудилось ее дыхание так явно, что он вскочил с постели, думая, что она рядом, но в комнате никого не было, а тишина давила страшной силой. Он невольно застонал, обхватив голову обеими руками: «Я схожу с ума. Я просто могу умереть, чтоб этого не произошло, надо на что-то решиться. Надо пойти к ней и признаться в том, что твориться в моей душе. Ведь мы люди. Она женщина, я мужчина. А потом его снова обуревали сомнения: « А что, если она меня не поймет, просто-напросто укажет на дверь, ведь эти русские так непредсказуемы, от них можно ожидать чего угодно. Но, нет, нет, она вовсе не такая. Она просто ангел во плоти. И вдруг, то ли он уснул, то ли уже галюники на него напали, но ясно услышал голос у себя в мозге: « Глупенький, будь же ты мужчиной, зачем так все преувеличивать? Зачем предаваться предрассудкам, да еще здесь, в этом каменном мешке?» Его подбросило, как будто какая-то пружина в нем разжалась, оглядывая комнату, надоевшую до чертиков, он увидел ее в мрачных тонах, даже стало казаться, что находится в гробу, заживо похороненным, а о нем все забыли, даже родной отец смотрит на него, как на покойника, только обещает сделать документы, а на самом деле ничего не делает. Когда это будет? Его прошиб пот, по телу растекалась слабость, может быть, голод давал о себе знать, а тут еще как назло, встретился со своим отражением в зеркале и невольно отпрянул. Оттуда смотрел на него полудикий, заросший дикарь с лихорадочно горящими глазами.
С Шурой тоже творилось несуразное, она абсолютно потеряла интерес к работе, сидела взаперти без дела, даже не интересовалась вестями с фронта.
Марта с нею не разговаривала, пани Ядвига по неизвестной причине забыла о ее существовании. Предаваясь мрачным мыслям, она невольно думала о судьбах людей и все больше склонялась к тому, что от судьбы не уйти, никому не удается уйти от предначертания свыше. Ее мысли невольно переключились на Стефана: «Вот даже Стефан, взять хотя бы его. Разве он мог думать, что окажется пленником этого каменного склепа, где притупляются мысли, зато обостряются чувства. Ишь, ведь молод, необычайно хорош собой, вдобавок богат, а тоже несчастлив, как и я, можно сказать». Вдруг ее тело прошиб пот. А что, если он предатель, может быть, стрелял в моих соотечественников, может быть, он и является виновником моего личного увечья?» но, вспомнив о том, как семья Стефана спасла ее от неминуемой смерти, она просто посчитала себя неблагодарной, а о нем подумала: « Не может человек с такой внешностью иметь злую, подленькую душу. Его великолепные глаза тоже говорят об этом, ведь, именно, они и являются зеркалом души».
Она надеялась, что ей когда-нибудь удастся покинуть свою тюрьму, увидеть свою Родину, по этому подумала: «Что я теряю? Я получеловек. Кто на меня посмотрит в здоровом обществе, то есть среди нормальных, здоровых людей? Я для них буду только калекой, вызывающей жалость, и это в лучшем случае, а в худшем брезгливое сострадание. Здесь же, в данный момент, он в силу сложившихся обстоятельств, отождествляет меня с красивой, полноценной женщиной. Может это как раз и есть для меня единственный шанс быть близкой с мужчиной, испытать его ласки, жар и пыл его тела и души. Ведь все мы родимся друг для друга. Может быть и я родилась для кого-то. Будь что будет, но если он будет ко мне благосклонен, я его отталкивать не стану.
В таком расположении духа, он застал ее сидящей в своем низеньком кресле с шитьем в руках.
Занятая мыслями о нем, она грустно смотрела в одну точку, не замечая, что он вошел, а когда их глаза встретились, то невольно вскрикнула, выронив шитье. Ее затворническую жизнь, ее келью, осветило божественное сияние, и это был он, показавшийся ей божеством, посетившим грешную землю. Она забыла о том, что он может быть, не тот за кого себя выдает, видела только его сияющие глаза, и он был для нее самым родным, близким, любимым, как никто в жизни.
Он вдыхал запах ее волос, кожи, любовался красотой ее глаз, всем ее прекрасным обликом и видел ее так, как будто она просто уселась в удобной позе, подогнув под себя ноги. Он не мог знать, даже не мог предположить, что душа может цвести, как дерево, цветы, во время любви. А душа действительно цветет, благоухая, и запах этот особенный, ни с чем не сравнимый. Нет ничего прекраснее этого душевного состояния, этого полета души. Так и его душа цвела, летала. Ему казалось, что он может все, и, наконец-то, стал самим собой, когда не надо притворяться, не надо врать, лицемерить, являться таким, каким создала его природа. Казалось в состоянии пережить любые муки, страдания, не задумываясь, может пожертвовать собой ради любимой, ради одного мига любви к ней. Это высшее состояние души нас обожествляет. Бог в эти прекрасные минуты приоткрывает свои тайны, дает нам единственный раз в жизни испытать, почувствовать его прикосновение, ощутить его дыхание, испытать то, ради чего дана нам жизнь. Если человек не любил, значит он не жил, он просто существовал, ел, пил, спал, удовлетворяя свои физиологические потребности. Стефан, именно, так жил до настоящего времени.
Что же произошло в данный момент? Может быть изолированность от внешнего мира, а может быть давящая атмосфера подземных помещений вызвала полет их душ и зародила это величайшее, ни с чем несравнимое чувство, подняла на поверхность все самое прекрасное из потаенных уголков их естества. Между ними образовалась светящаяся дуга, благодаря которой они созерцали души друг друга, улавливая малейшие сигналы самых потаенных их уголков.
Ну, Шурочку, можно было понять, эту безвинную, непорочную девушку, не знавшую в своей жизни мужской ласки, но Стефан этот ветреный красавец, ловелас, менявший женщин, как перчатки. Он влюблял их в себя, а затем без сожаления бросал, забывая о их существовании. Что в данный момент изменило его эгоизму, его тщеславию, что происходило в его душе? Он сам не знал, но их взгляды сказали то, чего не мог сказать их язык.
Стефан приблизился вплотную к сидящей девушке, встал перед нею на колени, взял ее руки в свои, дотронулся к ним губами и прослезился.
Это были слезы благодарности за то, кем она стала для него, за то, что она есть на свете. По ее щекам катились слезы неиспытанного счастья, так внезапно нахлынувшего. В этот момент он был готов подарить ей весь мир, самого себя, отдать за нее свою жизнь. Нежно прижимая к себе ее трепещущую счастливую, он чувствовал биение ее сердца, трепет ее души, желая защитить ее от всех жизненных невзгод, стать ей другом, братом, отцом.
Шура, потрясенная интимным прикосновением мужчины, таяла как воск, горела непонятным огнем, готовая влиться в него вся без остатка. А он нежно провел руками по ее роскошным волосам, прижался к ним губами, взял ее лицо в свои ладони, внимательно всматриваясь, впитывая ее красоту, затем прижался губами к глазам, нежно поцеловал уголки пухлых губ. Девушка, доведенная до экстаза, искала его губы, сгорала от нахлынувшего чувства, готовая раствориться в нем. Ее страстный поцелуй передал ему всю силу ее любви, девичьей нежности, тоску одинокой души. Она бессознательно тянулась к нему, чувствовала, что растворяется в нем, но ничего не могла с собой поделать. Как он взял ее на руки, как перенес на диван, она не помнила, запомнилось только то, что в ее ноги реально потекла горячая кровь, сознание помутилось, а в него влилась сладчайшая острая боль, она сама обрела форму газового облака понеслась в поднебесье, приобщаясь к божественной тайне бытия, сливаясь со вселенной, уносясь в бесконечность.
Утром она увидела спящего рядом Стефана, его счастливое лицо хмурилось во сне, а губы шептали: « Я люблю, люблю, люблю….»
Она думала: «Так вот, что такое любовь, ради нее стоит жить, нет большего счастья, чем любить и быть любимой. В этот момент, она вспомнила покойного доктора Страшевских, спасшего ей жизнь, и ей стало стыдно за свое нытье, она благодарила его за все то, что он сделал для нее, не жалея ни своих сил, ни времени, не будь его, она бы никогда не испытала того, что испытала в эту ночь.
С этой ночи жизнь для влюбленных стала сплошным праздником. Они без остатка отдавались друг другу, не в силах расстаться даже на секунду. А их страсть все разгоралась, становясь глубже, изощреннее, безумствуя в любовных утехах, они придумывали ласки все изощреннее. Сидя где-нибудь в уголке, молча часами слушали глупости друг друга, а предаваясь любовным утехам, не могли насытиться друг другом. Их любовь переливаясь через край, заполняя их души, и они начали бояться, что счастье может так же резко оборваться, как нахлынуло, старались скрывать свои чувства перед пани Ядвигой, Мартой, но это им плохо удавалось.
Озадаченная поведением сына, пани Ядвига торопила мужа с документами для него, ссылаясь на то, что он побледнел, тает в этом каменном мешке, превращаясь в тень.
Что касается Стефана, то он никогда еще не чувствовал столь большой полноты счастья и сил. Никогда не был таким счастливым, как с этой безногой девушкой, ставшей для него дороже жизни, дороже всех благ мира.
Пан Страшевский, дабы успокоить жену, отдал сыну ключи от потайной двери бункера, которая вела в сад.
И вот, когда все покидали бункер, Стефан брал свою возлюбленную на руки и бережно выносил в сад
Здесь, сидя под липами, они могли просидеть до утра. Время для них словно остановилось.
Ласковый ветер ласкал им волосы, касался губ, шарил в ресницах и улетел, спеша поведать о их любви своим братьям.
Так пролетели три месяца, незаметно, как один миг.
Как-то Шура сидела за завтраком в своей комнате и почувствовала в себе зародившуюся жизнь, ясно, внутри себя ощутила горячий, трепещущий комок плоти, внутренним зрением увидела тихое свечение ее. В этот же момент ощутила себя священным сосудом, которого коснулось бессмертие, увидела за сотни лет вперед живущих на земле своих потомков, возблагодарила Господа за счастье, которое испытывала.
Она улыбалась, уйдя в себя, и не заметила Стефана, стоящего в дверях. Он, любовно наблюдая за нею, произнес:
- Любимая, что с тобой случилось? Она словно проснулась, посмотрела сквозь него, невидящим взглядом. Он повторил:
- Любимая, что происходит? Что с тобой, где ты витаешь?
Она пришла в себя, нежно улыбнулась, потянулась к нему.
- Я безмерно счастлива, любимый. Не знаю, поймешь ли ты меня? Я чувствую, что меня коснулись небеса, а моей сути – божья благодать. У меня будет ребенок, из моей сути и плоти.
- Как у тебя будет ребенок? И ты говоришь, только твой, а разве я тут ни при чем?
Она признательно улыбаясь прижалась к нему:
- Любимый, моя любовь к тебе безмерна, но с этим чувством, что я испытываю в данный момент, ничто нельзя сравнить. Это божественное чувство присуще только нам, женщинам, не зря оно зовется «материнством».
Он держал ее в своих объятьях и чувствовал, что такой Шуры просто не знает. Она стала тихой, нежной и еще красивее, уже какой-то внутренней красотой, данной ей свыше.
Держа ее в своих объятьях, он чувствовал, что у него отрастают крылья.
« Я буду отцом, у меня будет сын, мой сын!» И тут же почувствовал большую ответственность за это маленькое существо, которое должно прийти в мир, произнес: « Любовь моя, нам необходимо связать наши узы браком. Стань моей женой. Узаконим наши отношения, не может мой сын родиться незаконнорожденным», - выпалил он и выжидающе ждал ответа.
Шура обмякла, повиснув на нем. Он испуганно отстранил ее, но она тихим голосом прошептала:
- Любимый, за что мне такое счастье? Я тебя так люблю, что не смогу совершить такого святотатства по отношению к тебе. Это просто абсурд, и я никогда не соглашусь стать твоей женой. Ты хорошо подумал? Тебе нужна безногая жена. Ведь жизнь прожить, как говорят, не поле перейти. Ты здоров, молод, красив, в конце концов, богат, зачем тебе я? Ты должен жить в кругу здоровых людей, а я без обеих ног. Разве ты согласен похоронить себя в этом подземелье? Кто знает, когда мне удастся выбраться отсюда? Надо смотреть на жизнь трезво, смотреть правде в глаза. Не надо предлагать невозможное, чтоб я думала, что ты уже не любишь меня. Разве нам так плохо? Разве нам так плохо? Ты, любимый, мне дал такое счастье, о котором я даже не смела помыслить. Что еще надо? Ведь я самая счастливая женщина в мире. Ты же, мой ненаглядный, вправе поступать, как тебе заблагорассудится, но прошу, больше не заговаривай о женитьбе, иначе я сочту тебя неискренним. Разве мы несчастливы? Нам это счастье послано свыше, так давай не будем его омрачать», - говоря все это, она нежно гладила его волосы, целовала руки, орошая слезами.
Он был потрясен, не думая получить отказ, познавая ее глубины души, как ни странно, не мог с ней не согласиться, а сам вымолвил: «Любимая, я не хотел тебя обидеть, я думал о нашем сыне, ведь ты не сможешь сама его воспитать. Моя прямая обязанность – вырастить его».
- Ты думаешь, что если у меня нет ног, то я не могу вырастить свое дитя? Ты плохо меня знаешь, ведь, если нет ног, то у меня вырастут крылья, если я не могу ходить, то смогу летать, - шептала она, все лаская его, а немного помолчав, продолжала: « Знаешь, милый, я тебя так люблю, что это было преступлением с моей стороны, то есть выйти за тебя замуж, навязав себя тебе на всю оставшуюся жизнь, я стану несчастным, если буду видеть тебя несчастным, обманутым в своих чувствах, себя же я буду чувствовать просто обузой, что удесятерит мои страдания».
Так они просидели весь день до вечера, став еще ближе друг другу.
Время проходило в повседневных заботах, никакие сложности, казалось, не могут помешать их любви, которая стала более спокойной, умеренной. Они по-прежнему боготворили друг друга, но немного поспокойнее. Шура немного пополнела, черты лица стали расплывчатыми, грудь стала пышнеть, соски потемнели, живот стал покрываться коричневыми пятнами, надуваться, подымая пупок.
Стефану доставляло большое удовольствие слушать биение сердечка своего сына, приложив ухо к ее потаенному животу.
Однажды во время этого святого занятия, застал его пан Страшевский, почему-то состроив гримасу отвращения на своем суховатом лице, не говоря ни слова, кивком головы позвал сына.
Стефан смущенный, обескураженный, почувствовал себя так, словно его уличили в чем-то запретном, вызывающе последовал за отцом, с сожалением оглядываясь на ничуть не смущенную Шуру.
Отец отвел его в комнату, в которой должен был он жить, но так сложились обстоятельства, что почти не жил. Итак, пан Страшевский молча уселся, предложил садиться сыну, промолвил: « Нам необходимо поговорить, сынок, - ни слова не говоря о его отношениях с Шурой, глядя на Стефана строго, начал сразу о документах, сообщая, что все готово.
Скоро, мол, сынок, ты сможешь покинуть свою вынужденную тюрьму.
Стефан, услышав о том, что документы готовы, просто отчаялся. Его светло-золотистые глаза потемнели, по лицу разлилась нездоровая бледность, темные брови сурово сдвинулись к переносице.
- Отец, а как же пани Александра? Я без нее отсюда ни шагу. Ты должен понять, что я ее люблю больше свободы, больше жизни, говорил он на повышенных тонах, но видя непроницаемое лицо отца, уже просящее: «Папа, у нас с Шурой будет ребенок, я не смогу их бросить».
Пан Страшевский ожидал этого, но одно дело ожидать, а другое воочию услышать, поэтому он решил действовать осторожнее, чтоб не задеть самолюбие сына, и делать свое дело, глядя сыну прямо в глаза, добродушно сказал: « А кто тебя заставляет их бросать? Разве я тебе предлагаю бросить пани Александру и ребенка? Я тебе просто сообщил, что ты можешь время от времени покидать бункер, бывать в обществе, да и я уже не молод, мне нужен помощник в делах. А в бункер тебе дорога не воспрещена, можешь заходить туда, когда захочешь, в любое время дня и ночи, разве тебе кто-то запрещает? Но, знай, о пани Александре никто не должен знать. Сам видишь, время трудное. Ты не маленький, должен понимать.
Стефан был странен, если б ему запрещали встречаться с нею, то он бы сильно противился, и так молчал, про себя думая: «Значит, я буду ее видеть, буду продолжать любить». А в эту минуту он любил ее в стократ сильней прежнего.
Отец ушел, а Стефан вернулся к Шуре, изливая душу. Он действительно верил, что будет любить ее до гробовой доски.
Проходили дни, недели, они по-прежнему были вместе, наслаждаясь, обществом друг друга, ничуть не меньше прежнего. Но как-то снова появился в бункере пан Страшевский и объявил Стефану о поездке в их дальнее имение, которое находилось почти на границе с Украиной. Там у них были пахотные земли, участок леса, а главное старинный средневековой замок, в котором жили когда-то предки пана Страшевского. Управлял имением опытный управляющий, умножая с каждым годом доходы пана Страшевского, которые упали до нуля за время войны. Во на попечительство этому управляющему и должен был прибыть Стефан, набираться опыта в делах по ведению хозяйства.
Покинув подземные апартаменты, Стефан должен был признать, что в бункере воздух действительно не так свеж, как хотелось бы. Соскучившись по теплу, солнцу, он подставлял лицо солнышку, радостно наслаждался благодатным его теплом, ловил ноздрями струи свежего ветерка, несшего ароматы цветущих садов, водных бассейнов и рек.
Отец пригласил его в свой рабочий кабинет, украшенный охотничьими атрибутами.
Стефан, потянув ноздрями забытые запахи, вернулся в детские годы, когда любил, притаившись в уголок, наблюдать за работой отца. Ему льстило обращение с ним отца, как с равным, нравилось бывать на воле. В этот день с ним работал портной, а улыбчивые швеи обшивали молодого пана с охотой. Стефан был статен, хорош собой, но немного бледноват.
- Ничего, это пройдет, - думал пан Страшевский, любуясь статью сына. За короткое время белье, костюмы, рубашки, галстуки в достаточном ассортименте были готовы для любого случая жизни. Стефан в первые дни своей свободы забегал в бункер каждый день, всегда веселый, жизнерадостный, пахнущий новыми духами, внося с собой свежесть ветра, аромат цветущих лугов, садов.
Шура, длительное время проведшая под землей, чувствовала это, как никто иной, но предчувствие разлуки тяготило ее, она боялась не увидеть больше своего любимого, хотя и старалась не показывать этого, не желая омрачать его радости.
Наступил день отъезда Стефана в имение. Он ворвался в бункер с букетом полевых цветов, любимых Шурой, с бархатной коробочкой, где лежало кольцо с бриллиантом и дорогое колье.
Шура приняла подарки без видимой радости. Она не носила и не любила украшений. Между ними легла невидимая тень, которая тяготила обоих. Шуре хотелось, чтобы он побыстрее уехал, а он чувствовал свою вину перед ней, удивляясь, что не переживает страха перед разлукой, наскоро поцеловал ее и ушел, ссылаясь не то, что его ждут.
Его действительно ждал автомобиль, старый немецкий трофей. Стефан уселся на потрепанное кожаное сидение, и водитель повел машину со двора.
Отец, мать и слуги смотрели во след уезжающему, желая благополучно доехать к месту назначения.
Стефану, как всякому молодому человеку нравилась быстрая езда, но, во-первых, на этой развалюхе далеко не уедешь, во-вторых, после стольких месяцев проведенных взаперти, он не мог не любоваться синевой неба, легкостью облаков, высунувшись из машины, он смотрел на мир, словно видел впервые, а ревущий, стонущий автомобиль нес его через выжженные степи. На полях угрюмо работали поселяне, с нескрываемой неприязнью смотрели в след хлопающей, скрипящей машине, своей маркой, напоминавшей о войне.
Хотя имение не было так уж далеко, но дорога заняла почти неделю. Везде стояли военные кордоны, шло разминирование полей, перелесков, рощ, где проходили бои. Стефан измотался, устал, и жаждал одного: побыстрее добраться до имения, отдохнуть. Еще прошли длинные сутки, без всяких впечатлений и вот уже его средство передвижения въехало на территорию равнины в благоухающих садах, она упиралась в возвышенность, где и высился каменный, средневековой замок, ярко освещенный солнцем. Повеяло стариной, добрыми, забытыми временами. За замком высокой стеной стоял лес. Здесь тоже виднелись последствия войны – глубокие воронки от взрывов бомб, вывороченные деревья, но замок стоял, цел и невредим, зато дорога, ведшая к нему, была вся в колдобинах, и старенький трофей скакал, словно заяц, поднимая клубы пыли.
Видимо столб пыли и предупредил о прибытии молодого пана, так как ему на встречу на двуколке выехал управляющий имением. Это был крупный, довольно пожилой мужчина, с изрядным брюшком, со стриженной под горшок круглой головой, приветливо улыбаясь, он размахивал руками, пытаясь привлечь к себе внимание, стоя в двуколке, в которую был впряжен серый, в яблоках конь.
Уставший, с побитым задом, результат прыгающей машины, Стефан с радостью пересел в двуколку к управляющему. Ехать пришлось недолго, и вскоре двуколка уже стояла во дворе, где девки с заткнутыми за пояс подолами мели двор, подняв тучами пыль, видимо наводили порядок по случаю приезда молодого пана.
Стефан, стоя в столь знакомом с детства месте, умильно улыбаясь, оглядывался вокруг.
А вот и кухня, где в былые годы стоял стук ножей поваров. Да, как это давно все было. Вечерние тени скользили по крышам амбаров, стенам замка, придавая ему неописуемую прелесть, юркая птичка, усевшись на освещенную солнцем, зубчатую стену замка, заливисто распевала свою незатейливую песенку. Для Стефана здесь все было родным с детства, и в то же время от всего веяло непонятной отчужденностью, чем-то новым, примешивались незнакомые запахи, звуки. Стоя на высоком крыльце, он еще раз окинул все взглядом, и стал подниматься по крутой лестнице в отведенные для него комнаты.
Несмотря на то, что время года было теплым, в приемной горел камин, видимо длительное отсутствие хозяев делало свое дело, в помещениях чувствовалась промозглая затхлость, которую и пытались уничтожить при помощи камина.
Довольно просторная приемная встретила хозяев мертвой тишиной, если не считать потрескивания дров в камине, со стен на Стефана смотрели с почерневших портретов надменные лица его предков.
Их пристальные взгляды коробили его, и ему показалось, что попал в другой каменный бункер, где был неслыханно счастлив. Вспомнил Шуру, но как-то неясно, словно расстался с нею несколько месяцев тому назад, а не всего неделю.
Другими комнатами Стефан остался доволен, особенно спальней, откуда открывался чудесный вид на лесные угодья, тянувшиеся без конца и края. В рабочем кабинете его ждали принадлежности охотника.
На следующий день по приезде, он пытался знакомиться со счетами, но ему это скучное дело скоро надоело, и он обрадовался и не скрывал своей радости, когда после обеда ему подвели отличную скаковую лошадь, вороной масти, невесть, как уцелевшей, после нашествия гитлеровцев. Конь гарцевал, щерил зубы, косясь выпуклым глазом на молодого хозяина, но, почувствовав на себе отменного наездника, весело заржал.
Спустя минуту, Стефан, слившись с конем, мчался к лесу, так маняще зазывающего в свои дебри. Молодой человек вдыхал всей грудью настоянный душистый воздух, радовался свободе, с охотой удаляясь от замка.
Управляющий, провожая своего любимца, качал головой, восхищался: « Вылитый пан Страшевский, а еще больше похож на своего дедушку в его молодые годы. Как бежит время? Намедни вчера носил его на руках, обучал стрельбе, ой, ой, ой!» - все качал головой, ставший почему-то намного старше, управляющий.
Стефан, заставив коня мчаться в галоп, вскоре скрылся в чаще леса, целый день, наслаждаясь прохладой дубрав, пьянящим воздухом, к вечеру, уставший, но счастливый, уже веселее смотрел на окружающий его мир.
Ежедневно с почтой он отправлял письма для Шуры, на имя Страшевского, где изливал перед ней душу. Писал, что страшно скучает, любит, просил беречь себя и их сына, обещал возвратиться в скором времени в их интимное гнездышко.
Шура после его отъезда страшно скучала, томилась, не находя себе места, как потерянная сидела, глядя в одну точку, не в силах унять лившихся ручьями слез. Под глазами легли темные тени, делая их еще больше и глубже, стала почти все время болеть поясница, стало тяжело дышать, плод все больше давил на диафрагму, вызывая икоту, ведь она не могла встать на ноги, размять. На днях ее посетила пани Каталина, в роскошном по тем временам платье для беременных, свежая, румяная, с заметно увеличенным животиком. Оказалось, что ее беременности было столько же сроку, сколько и Шуриной, так что у них нашлось, о чем поговорить.
Когда Каталина раскланивалась с Шурой, то Шура поймала на себе ее странный, словно оценивающий взгляд, от которого, почему-то стало не по себе:
« Что бы это значило? Почему она так смотрит на меня?» - задавала себе вопрос Шура, но не могла подыскать выражения, что именно вызвал в ее душе этот взгляд Каталины. Но прошло не так много времени, и Шура, занятая шитьем одежек для маленького забыла начисто о Каталине, и о ее странном взгляде.
Марта успешно вышла замуж и относилась к Шуре, как нельзя лучше, в душе подтрунивая над собой, как она мечтала влюбить в себя молодого пана.
Время бежало незаметно, целые комплекты одежек лежали в комнате у Шуры, вызывая радость в ее душе, но ей все труднее было справляться с проявлениями беременности, да еще вдобавок мучила бессонница. Домашний врач панов, который поступил к ним вместо покойного, чисто по-человечески был обеспокоен положением Шуры, и после ее осмотра предложил сконструировать специальную кровать для нее, где бы она могла освободиться от бремени. Под его руководством такая кровать была сконструирована с подлокотниками, о которые бы роженица упиралась локтями во время родовой деятельности. Держась за специальные веревки. Для культей ног тоже были сделаны специальные выступы так, чтоб пространство между ног оставалось свободным, не препятствуя появлению нового жителя Земли.
Когда кровать была доставлена в бункер, на нее уложили Шуру, обучили, как пользоваться приспособлениями этого сооружения. Так вот будущая мать, благодаря большой заботе доктора, ждала родов в полной боевой готовности.
Когда до родов оставалось месяца полтора, приехал Стефан. Ворвался к ней с охапкой цветов, подарками, сам веселый, окрепший, загорелый, обласканный ветрами степей, лесных вольный просторов и вдруг увидел Шуру, бледную, с одутловатым лицом, с темными кругами вокруг глаз, с коричневыми пятнами по всему лицу, то опешил. Она, стесняясь своего внешнего вида, вопреки тем чувствам, что питала к нему, встретила его холодно, даже настороженно.
В его душе при виде столь жалкого, как ему показалось, зрелища, закралось сомнение: « Неужели это предмет моего поклонения, столь страстной любви? Неужели я мог обожествлять эту жалкую полуженщину?» - а нищенское убранство ее жилища еще больше вызвало негодование в его душе. Он через силу взял ее похолодевшие руки в свои, и не смог передать им своего тепла, словно окаменел, его сердце очерствело, взгляд стал колюче-холодным. Затем скованно, холодно, поспешно простился со своей любовью и уехал в имение.
А дело было в том, что в его душе, как у каждого мужчины, в силу его эгоистичности, самолюбия, наступил кризис. Выйдя на свободу из временного убежища, он словно впервые в жизни увидел и понял как никогда, как это прекрасно, когда женщина имеет ноги. Что он не делал, но не мог оторвать своего взгляда, даже от самой уродливой девки.
Ему нравилась любая дурнушка, если у нее были хоть мало-мальски стройные ноги. Это стало просто наваждением, кошмаром. Он грезил женскими ногами. Чтобы он не отдал, чтобы у Шуры были ноги, самые короткие, самые кривые, но ноги. Он теперь ничего не видел в женщинах кроме ног, и ничего не мог с собой поделать.
В имении, когда он снова приехал, он не расставался со своим конем, доверяя лишь ему свои сокровенные тайны, на нем объезжая самые отдаленные уголки лесных угодий. Его часто видели на коне в степи, просто посреди пашни.
И вот однажды, забравшись в самую отдаленную часть лес, он оказался на границе имения его отца и имением соседей. Следуя тихим шагом вдоль границы, наслаждаясь тишиной, он был приятно удивлен – по другую сторону границы, по алее пирамидальных тополей, следовала на белой породистой лошади, столь прелестная особа, что Стефан, невольно ущипнул себя, не грезит ли он. Но всадница оказалась живой. Ее юное стройное тело было затянуто комбинезоном лазоревого цвета, шелковая ткань комбинезона так и переливалась под солнечными лучами, гордую голову оттягивал назад сноп белокурых волос. Но самым главным, на что обратил внимание, были ее стройные, длинные ножки, плотно обтянутые, словно живой шелковой тканью комбинезона. Она сидела, свесив свои чудо ножки вдоль крупа лошади.
Стефана кинуло в жар, он с точностью представил, как она прижимается к нему бедренной частью этих прелестных ножек к его ногам. Горячая волна подступила к горлу, вливаясь в голову, стуча в висках серебряными молоточками. Он чуть было не потерял сознание. А сказочная фея, не видя его, задумавшись, грызла соломинку, попустив поводья.
Стефан словно сфотографировал ее гибкий тонкий стан, гордую посадку головы, тонкий точеный профиль, уголок пухлых розовых губ, дугу темных бровей.
Спрятавшись за деревьями, он пропустил красавицу вперед, глядя ей во след, не принадлежал себе. Когда она скрылась из поля видимости, он пустил коня галопом прямиком к замку, думая: « Как я мог любить женщину без ног, ведь после женской груди, это самая красивая часть женского тела. Он искушенный в любви ловелас, явно представлял, как во время интимной близости, она охватывает его бедра прелестными ножками, и дрожь охватывала его молодое, здоровое тело.
Как он не старался, ничего не мог с собой поделать, корил себя в том, что так скоро забыл Шуру, ведь только недавно клялся ей в любви до гробовой доски. Ведь она подарила ему столько счастливых минут, отдавая себя без остатка. Но как он не старался вспомнить ее улыбку, ее манеру поправлять волосы, ее лицо, все затмевала белокурая красавица. В эту ночь он плохо спал, а рано по утру посетил контору, где почти целые дни проводил управляющий имением, и без всяких обиняков ошарашил его вопросом, кто их соседи по усадьбам, и та белокурая юная пани, разъезжающая на белой лошади под стать ей самой.
Управляющий, оторвавшись от бумаг, понимающе уставился на него сквозь толстые стекла очков, слезящимися глазами: «Не понял, пан Стефан, повторите вопрос.»
Стефан, ничуть не конфузясь, послушно повторил интересующий его вопрос.
«Аааа!» - снимая очки, прогудел управляющий: « Вас видимо заинтересовала белокурая панночка Зося. Это шестнадцатилетняя дочь наших соседей Яблонских, ее полное имя Изольда. Богиня! Богиня!» - улыбаясь, он продолжал: « Смею заметить, что панночка в свои шестнадцать лет не удостоила вниманием ни одного из многочисленных воздыхателей».
Молодой пан остался доволен сообщенными подробностями.
« Изольда! Изольда» - повторял он, соображая как познакомиться с юной панянкой, чтоб произвести на нее наивыгоднейшее впечатление
С этого дня Стефан забыл о существовании Шуры, целыми днями носился на верном Вороном, забираясь на лесистые горы, вихрем мчась вниз со склонов, рискуя сломать себе шею. Его проделки не остались не замеченными, вскоре то одна, то другая из служанок заявили, что в лесу соседей появился не то лесной бог, не то дьявол, который носится на черном коне, не касаясь земли. Однажды девушки, возвратясь из лесу, заявили в один голос, что черный демон забросал их цветами, вихрем несясь на вороном коне, при этом заверяли, что видели, как конь его поднялся над землей и полетел.
Пани Изольда была просто шокирована столь бесцеремонным поведением наездника, а летящий над землей конь вызывал такой интерес, что она стала грезить, как встретить «демона»: «Кто он? Откуда появился в наших краях?» С этого дня помимо своей воли, она забиралась в самую чащобу леса на своей красавице лошади, лелея надежду встретить черного демона, прозванного так девушками за свой черный наряд и черную масть своего коня.
Изольда, одаренная природной красотой, отличалась впечатлительной, пытливой натурой, да и умом бог не обделил, увлекаясь чтением, имела острый язычок, умела играть на разных инструментах, при этом пела и довольно сносно, обладая приятным голосом.
Стефан, что было сил, побежал на отчаянный крик девушки, но она, на своё счастье, падая, зацепилась за корягу старого, развесистого дуба и, почти овладев собой, сидела, опираясь о его могучий, шероховатый ствол, точно загнанный зверёк, сверкая синевой глаз сквозь длинные, пушистые ресницы. Её верхняя короткая губка нервно дрожала, выдавая волнение, стыд, боль, зато нижняя пышная придавала её прелестному личику такое милое, такое очаровательное выражение, что молодой человек опешил, любуясь девушкой, благодаря господа, что всё обошлось.
Пытаясь встать, она вскрикнула, застонала, превозмогая боль. Стефан участливо спросил:
- Вы ушиблись? Вам больно? Не шевелитесь, не пытайтесь встать на ноги, я сейчас.
Девушка была столь юной, чуть ли не ребёнком. Нежная кожа её личика сияла юношеским румянцем, пухлый алый рот ещё сильнее подчеркивал в ней непорочную юность, хаотично разметавшиеся по плечам, груди белокурые волосы золотом переливались в бликах солнца, проникавшего сквозь листву деревьев, подчёркивали её красоту. Её юную красоту разве было можно сравнить с красотой нераспустившегося бутона розы в утренней росе, обещавшего превратиться в пышнуюпрекрасную розу.
Её нетронутая красота, юная невинность вызвали в сердце Стефана чуть ли не отцовские чувства.
Опустившись на колени перед пострадавшей, он взял ступню её стройной ножки в свои ладони, невольно любуясь ею.
Девушка поморщилась от боли, но промолчала, глядя на него вызывающе. Вид ножки обеспокоил Стефана, ступня заметно отекла, так, что башмачок, отлетевший в сторону, уже нельзя было на неё надеть. Жалея о случившемся, ласково глядя в её очаровательное личико, чуточку искаженное болью, он бережно взял её на руки, предварительно испросив разрешения, понёс по направлению коня, бившему копытами землю.
Девушка оказалась столь хрупкой, казалась воздушной, что он почти не ощутил тяжести. Почему-то именно в данный момент он вспомнил, как носил налитое, молодое, безногое тело Шуры, и, невольно скользнул взглядом по ногам юной панночки. Его удивило то, что столь нежное, прекрасное существо женского пола не вызвало буйства в его крови. Ему казалось, что у него на руках красивая фарфоровая кукла, и он боялся уронить её, дабы не разбить. Зато в душе юной панночки происходило что-то непонятное. Его бережное, участливое обращение заставило ёкнуть сердечко. Она чувствовала его сильное тело, слышала его дыхание, ощущала запах его тела, и это не могло её не волновать, тем более что она ещё ни разу не была в такой близости к мужчине, невольно разглядывала вблизи его упрямый подбородок, его по-мужски упругие губы, а гулкие удары его сердца, вызывали в её теле неиспытанную дрожь, и её сердце, против её воли, расцветал яркий, горячий цветок.
Подняв свою необыкновенную ношу к своему коню, тревожно косившему глазом, он усадил ее ему на спину, и, отвязав поводья, медленной поступью направился к усадьбе Яблонских.
Обескураженная, растерянная юная панночка, терпя боль, сникла, послушно сидя на крупе коня, продолжала незаметно разглядывать своего спасителя. Ей нравилось его отлично сложенное тело, сильные руки, посадка головы, его манера вести себя, и мужественная красота его лица заставляла чаще биться неопытное сердечко. Она в душе признавалась себе, что за свои шестнадцать лет видит впервые такого красивого мужчину. Ведь он по сравнению с ней действительно был возмужалым, вполне взрослым мужчиной, разница в возрасте как никак составляла двенадцать лет.
Почему-то разговора не получалось. Он не знал, о чём с нею можно говорить, видимо затворничество в бункере, пережитая там горячая страсть, сделали своё дело. Он ловил себя на том, что разучился флиртовать с женским полом, да ещё, именно в сей момент, так ярко вспомнилась Шура, что он просто терялся, корил себя за то, что так холодно простился с нею, поступил, можно сказать, по-свински.
- Вот управлюсь с делами, хотя какие у меня тут дела? Ну, так вот, как только управлюсь с делами, поеду, навещу её. Тем более что уже очень даже скоро время появиться моему сыну на свет,- подумал он, и дрожь побежала по телу, ему стало тоскливо, неуютно на душе, горячий комок подступил к горлу, его душили слёзы. В это время до его слуха, как сквозь вату, донёсся тихий стон всадницы. Он обеспокоено подбежал к ней, спрашивая, в чём дело? Она виновато молчала, тогда он повёл коня тише через цветущие поляны, вдоль говорливого ручейка с прозрачной, холодной водой. Конь всё тянулся к воде, никак не мог утолить своей жажды. Впереди послышался лай собак, и буквально минуту спустя показалось на пригорке высокое строение голубятни, где мужичок неопределённого возраста, с голым торсом, только в белых подштанниках, стоя на крыше, свистел соловьём-разбойником, гоняя голубей.
Стефан, увидя такое зрелище, невольно залюбовался. Голуби белым бисером кружили над крышей голубятни, крытой почерневшей черепицей.
Миновав голубятню, Стефан повёл коня по узкой тропинке, ведущей в лощину, и увидел старый, почерневший от времени, двухэтажный дом с колонами. Его опоясывал на уровне второго этажа круговой, сплошной балкон с лепным ограждением.
Во дворе тревожно суетились, слышались выкрики, плач. Но, увидев белого коня под навесом, спокойно жующего овёс, Стефан понял причину суеты. Конь, на самом деле породистая кобыла по кличке «Луна», возвратясь домой без своей очаровательной хозяйки, встревожил хозяев, вызвал переполох в доме.
Вскоре Стефана, его верного коня с наездницей заметили и с радостными возгласами бросились навстречу.
Мать Изольды пани Владислава, а вы, наверное, поняли, что юная панночка и есть Изольда, лежала с мокрым полотенцем, держась обеими руками за голову, пузырьки от лекарств лежали прямо на полу, возле кушетки, где лежала она, убиваясь по своей дочери.
Пан Эдуард, отец Изольды, подкрутив пышные усы, потирая руки, радостно встретил Стефана, радуясь тому, что будет с кем скоротать время. А время здесь коротали за бочкой добротного домашнего вина, закусывая по случаю войны, картошкой в мундирах, солёными грибочками, вспоминая добрые времена, когда на столе была и курятина, и дичь, и лосось, и окорок.
К Зосе, как ласково называла её не только мать, но и все домашние, вызвали врача. Осмотрев ушиб, он наложил на ногу тугую повязку, пообещав, что через неделю дочь будет бегать, как газель, а сам поспешил к столу.
Чаши наполнялись раз за разом, и непривыкший к спиртному Стефан вскоре захмелел, радостно распевал песни с паном Эдуардом и его собутыльниками.
Успокоенная доктором пани Владислава насчёт здоровья дочери уже строила планы насчёт молодого соседа и своей Зосеньки: «А что?- думала он.- Чем не жених, да и партия то, что надо, ведь мы давно знакомы и с пани Ядвигой, и её супругом, не говоря уже о том, что они одни из самых уважаемых людей нашего круга».
Стефан бледный, с головной болью заявился домой на другой день и целый день провалялся в постели, не притрагиваясь к пище. А к вечеру за ним заехал сам пан Эдуард, но молодой человек поблагодарил его за гостеприимство, сославшись на недомогание, отказался от приглашения, при этом вежливо осведомился о здоровье Изольды.
Управляющий корил его:
- Нашли же Вы себе компанию, да они хоть по бочке выпьют, с ними ничего не станется, а Вам негоже, негоже так себя вести. Стефан потерял надежду встретить прелестную пани, которая оставила, в его душе неизгладимый след. Задумавшись, пустил коня рысью. В воздухе пахло лесными испарениями. Стояла полуденная жара, жалящие кровососы надоедливо звенели, донимая как животину, так и его. Он с наслаждением думал о том, как он окунёт своё, взопревшее от жары, тело в прохладную воду пруда. Но его приятные мысли прервало громкое, призывное ржание его жеребца. Взбудораженный конь понёс его сквозь гущу леса, не разбирая дороги. Стефан прижался к его холке, рискуя быть разбитым о стволы деревьев. Потеряв контроль, власть над животным, он пытался понять, что заставило такого умного, покладистого коня выйти из повиновения. Слегка приподняв голову над крупом коня, рискуя остаться без черепа, он увидел впереди, меж деревьев, мелькавший зад белого коня с всадницей на спине. Она испуганно жалась к его холке, пытаясь уйти от дикой погони, боясь упасть и разбиться насмерть. Страх за жизнь всадницы заставил Стефана позабыть об опасности, рискуя быть искалеченным задними копытами своего коня, он спрыгнул на землю на полном скаку, ухватившись изо всех сил за поводья. Конь рванулся вперёд, но удила причинили ему нестерпимую боль, послушно остановился. Стефан спешно привязал упряжью его к дереву. В это время всадница, не удержавшись, выпустила поводья на самом крутом спуске, упала на скаку с коня, кулем покатилась вниз. Конь, радуясь свободе, взбрыкивал задними ногами, умчался, теряясь за деревьями.
Стефан отмалчивался, признавая его правоту.
Управляющий, видя, что молодой пан действительно чувствует себя не в своей тарелке, решил его обрадовать, достал письмо от пана Страшевского. Стефан обрадовался, но в письме отец убедительно просил управляющего задержать сына в имении, ссылаясь на неурядицы в документах.
Стефан же строил планы побывать дома, расстроился было, но когда узнал причину отсрочки его поездки домой, то согласился с отцом.
На самом деле обстоятельства слагались совсем иначе, не так, как писал пан Сташевский в своём письме, и причиной вовсе были не документы, а дело в том, что до родов Шуры оставались считанные дни. Она походила на надувной шар, очень тяжело переносила последние дни беременности, её живот напоминал булькающую квашню, тело отекло, губы разбухли. Она самой себе казалась настолько тяжёлой, что не могла ни сидеть, ни лежать. Домашний врач хозяев почти не вылезал из бункера, ожидая, что роды начнутся с минуты на минуту.
И вот в один из вечеров Шура почувствовала облегчение, дышать стало легче, живот осел, а к полуночи острая боль полоснула по пояснице, горячей мучительной волной разлилась по низу живота. Стиснув зубы, Шура переждала, когда боль утихнет, зная из наставлений доктора, что так должно быть. Боль действительно утихла, но через четверть часа повторилась с ещё большей силой и длилась значительно дольше, повторяясь раз за разом, набирая силу. Всё труднее превозмогая боль, Шурочка, наконец, позвала подмогу.
Марта, ночевавшая в бункере, сообщила врачу о состоянии Шуры, и он незамедлительно явился. Под его руководством Шуру уложили на приготовленную для родов кровать, вложили ей в руки верёвки, которыми она должна была пользоваться при потугах. Культями ног она опиралась в специально для этого сделанные выступы кровати, которые служили продолжением культей.
Обливаясь липким потом, впадая то в жар, то в холод, Шура послушно тужилась, упираясь культями, натягивая верёвки, но нестерпимая боль в якобы настоящих, живых ногах, вызывала тяжкие страдания.
Марта раз за разом смачивала губы страдалице, а когда та, теряя сознание, начала проваливаться в тёмную пропасть, сбрызнула лицо ей ледяной водой.
Доктор, при следующих сильных потугах роженицы, нажал своими сильными, умелыми руками ниже её грудины и вскоре между культей ног зашевелился маленький комок, оглашая мир младенческим криком, внося свет в подземелье, вызывая улыбки радости на лицах присутствующих.
В это же время в своих покоях имитировала роды пани Каталина. Неспособная стать матерью своего ребёнка, она имитировала свою беременность, а теперь роды, готовясь стать матерью сына Шуры.
Вот почему Шуру смущал её пристально-изучающий взгляд, оказалось, что Каталина смотрела на Шуру как на инкубатор, в котором развивается её, Каталинин сын.
Ничего не подозревавшая, уставшая, измотанная родовой деятельностью, Шура чувствовала себя самой счастливой на свете. Ведь она произвела на свет дитя мужского пола, дитя необъяснимой страсти Стефана, и своё дитя, первой и единственной горячей страстной любви. Она, безногая, забытая богом и людьми, калека, стала матерью, ощущая материнское счастье каждой клеточкой своего тела, она терпеливо сносила возню доктора и Марты у нижней части своего тела, уставшая, но самая счастливая, мать. Отдав много сил родовому процессу, уснула незаметно для себя, провалившись в приятную, бархатную темноту.
марта, запеленав младенца, поднесла матери. Доктор ласково, нежно похлопал уснувшую, счастливую Шуру по щекам.
- Пани Александра, пора покормить сына, по народным приметам, если сын поест материнского молозива, то никогда и нигде не забудет свою мать.
- Ах, доктор, Вы так говорите, словно его хотят у меня забрать,- улыбнулась Шура, прикладывая своего первенца к тугой груди. Он крепко ухватился за материнский сосок своим тёплым ротиком, а Шура чуть не лишилась чувств от свалившегося на неё счастья.
Утолив голод, младенец уснул, а счастливая мать смотрела и не могла насмотреться на своё маленькое дитятко, личико которого было ещё сморщенным, как у старичка, и ей он казался самым красивым на свете.
Марта подошла забрала от Шуры её ненаглядного сыночка и унесла в покои пани Каталины.
Каталина возлежала на мягком ложе в роскошном белье, специально сшитом для столь важного случая. Горница была завалена цветами, подарками от мужа, родственников. Рядом с покоями пани Каталины находилась детская комната, где в кроватку из слоновой кости, на твёрдый матрасик Марта положила уснувшего новорожденного.
Пан Зюзя, гордясь женой не меньше, чем собой, принимал гостей, по случаю рождения своего первенца в приподнятом настроении, действительно считая себя отцом этого новорожденного существа. А дело обстояло так, что пани Каталина, как только задумала стать матерью сына Шуры, запретила ему ночные посещения своей спальни, ссылаясь на то, что физическая близость её с мужем может плохо сказаться на ходе беременности, что в итоге не мешало принимать у себя почти каждую ночь молодого красавца- садовника.
В аферу усыновления сына Шуры пани Каталиной были посвящены немногие, а именно: Марта, доктор и паны Страшевские.
После первого кормления младенец проспал больше четырёх часов, и когда заворочался, состроив ротик трубочкой, ища материнский сосок, Марта взяла его на руки и унесла на очередное кормление Шуре. Так Шура, сама того не ведая, стала кормилицей своего родного сынишки.
Ребёнок, подрастая, тяжело переносил разлуки с матерью, что сказывалось на его психике. Он, сам того не понимая, желал быть только с матерью по крови, что доводило Каталину до истерики. И вот, когда Каталина в очередной раз закатила истерику, кричала, что она знать не хочет этой безногой, пусть, мол, найдут новую кормилицу её сыну, то вмешалась пани Ядвига, втолковывая Каталине, что ребёнку для правильного развития необходимо именно молоко его родной матери, её ласки, её любовь.
- Пойми, дорогая, малышу необходимо быть подольше с матерью, для его же пользы, - на что Каталина не могла возразить.
Шуре же та же пани Ядвига внушала, что малышу вредно подолгу находиться в подземелье, что ему необходим воздух, солнце, с чем Шура, как любящая мать, соглашалась, с радостью разрешила его уносить.
Однажды, когда Шура в отведённой части сада дышала воздухом, то сквозь зелёную естественную изгородь увидела пани Каталину гуляющей в саду с ребёнком. Ей сын Каталины показался вылитым её родным сыном. И, когда в разговоре с пани Ядвигой она об этом заявила, то та успокоила её, что до года малыши все на одно лицо. После этого случая Каталина держалась подальше от той части сада, где часто сиживала Шура.
Шура почти оправилась от родов, пятна с тела, лица сошли, но главное, что материнство пошло ей на пользу и она стала красивее прежнего. Её просто распирало счастье и хотелось поделиться своей неуёмной радостью с отцом своего первенца, а он не появлялся и не появлялся. И она спросила у пани Ядвиги:
- Где Стефан? Почему его нет, неужели его не радует рождение сына? А, может быть, всё ещё с документами что-то не так?
Пани Ядвига как-то непонятно поёжилась от её вопросов, молча, печально смотрела Шуре в глаза, затем безутешно заплакала, обняла Шуру, прямо-таки по-матерински жалея её, объявила:
- Эх, дорогая моя, мы с мужем скрывали, не хотели тебе говорить об этом страшном событии, но Стефана нет в живых.
Шура побледнела, непонимающе глядя на неё.
- Что Вы несёте? Как так можно?
Тогда она почти выкрикнула:
-Да, Стефан погиб, упав с лошади на полном скаку. Мы молчали об этом, боясь навредить беременности. Нашим долгом было сохранить его сына, нашего внука. Да, дочка, это сучилось ещё до рождения малыша.
При её последних словах Шура обмякла, и если бы могла упасть, то грохнулась бы наземь замертво.
Пани Ядвига заохала, бегая по комнатёнке несчастной Шуры, где-то отыскала нашатырь, преподнесла к узким ноздрям бедной женщины, рыдая по-настоящему, веря в своё враньё, что Стефан погиб.
Шура долго не могла прийти в себя от страшного потрясения, оплакивая живого и здравствующего отца своего ребёнка, при этом обещая своему возлюбленному посвятить свою жизнь воспитанию его сына, плоти от плоти его, его кровиночке, страшно упрекая себя в том, что в душе у неё рождались сомнения насчёт его верности, любви, в то время, когда его уже не было в живых. Обливаясь от безысходности слезами, она просила у него прощения за свои кощунственные мысли, подозрения, обещая любить его до гробовой доски, а сына воспитать достойным человеком.
А в это время в отдалённом имении Страшевских жизнь шла своим чередом, со своими горестями, радостями. Пострадавшая тогда в лесу при падении с лошади юная панночка Зосенька вполне выздоровела, и они со Стефаном были неразлучны, проводили вместе дни с утра до вечера, вместе завтракали, обедали, ужинали. Их можно было встретить в самых потаённых уголках леса. Выезжали они на своих скакунах и поля, взбирались в горы.
Как-то летним знойным днём их застала гроза. Они инстинктивно начали искать укрытие, увидели уютный шалаш, крытый еловыми лапами, и решили переждать в нём непогоду. Потемневшее насупленное небо, покрываясь сполохами молний, разрешилось страшным ливнем, в воздухе стоял постоянный, неумолкаемый гром, треск, вспышки молний.
Стефан с Изольдой стояли в шалаше, почти прижавшись друг к другу. Успевшая промокнуть одежда плотно облегала их молодые, стройные тела, на лицах отражались сполохи молний. Снаружи лил дождь, а здесь было тепло и сухо. Обстановка сложилась как никогда, интимной, располагала к близости, и Изольда не выдержала, с выходкой шаловливого ребёнка, обвила гибкими руками шею Стефана, ища его губы. Они поцеловались, но Стефан не успел даже обнять девушку, прижать к себе, как она оттолкнула его и выбежала из шалаша. Он обескуражено хлопал глазами, он не успел даже осмыслить этого поцелуя, не успел почувствовать его вкуса, а на душе осталась почему-то непонятная горечь, и снова в голове мелькнуло:
- Почему меня не тревожит, не зажигаете красота? – Его только те первые мгновения, когда он увидел её верхом на лошади за частоколом, разделяющем имения их родителей. Эта же полудевочка не вызывала в его душе никаких эмоций, у этой с ой ничего общего не было. Это была их последняя встреча наедине. С этого дня Изольда отказывалась от езды верхом, от прогулок с ним наедине, но зато охотно бывала с ним на людях.
Её мать Владислава на людях старалась подчеркнуть их отношения, давая всем понять, что они чуть не помолвлены.
Стефану в душе это не нравилось, но он не сопротивлялся натиску пани Владиславы. А в это время всё чаще приходили на ум воспоминания о Шуре, и снова думал, что не мешало бы съездить домой, встретиться с нею. О ребёнке, как ни странно пытался вообще не думать. Ему в душе что-то претило думать о нём, казалось, что он предал своего родного сына.
Как-то утром, когда Стефан уже был готов отправиться на прогулку, холоп принёс почту. Письма были все деловые, и он уже было потерял к ним интерес, когда увидел конверт с почерком отца. Стефан вскрыл конверт, надеясь получить вести о Шуре. Письмо начиналось обычно с вестей о доме, здоровье, а дальше отец почему-то просил Стефана быть сильным, не терять мужества и следовало сообщить о смерти пани Александры. Отец писал, что она умерла во время родов. Просил прощения, что не сообщил раньше, что мол они боялись об этом сообщить. Он писал дальше:
- Приедешь, сынок, поклонишься ее могилке. Мы ее схоронили в саду. Я думаю, что она тебе не посторонняя. Крепись, сынок. – что там было дальше Стефан не помнил, его сознание помутилось, в глазах наступила тьма, он беспомощно хватая воздух, осел на пол.
Он так тяжело пережил сообщение о смерти своей любимой, что даже вызвал опасение за свою жизнь у окружающих его людей. Самое страшное, что он переживал все в себе, молча, отказываясь от пищи, и почти не спал, страшно исхудал.
Семья Яблонских беспокоилась, почему он перестал к ним ездить, так они и уехали в свою городскую квартиру, не простившись с ним. Он отказывался принимать, кого бы то ни было.
Управляющий не мог понять, что могло произойти. О чем писал пан Страшевский в письме, он так и не добился у Стефана. А когда, наконец, молодой пан впустил его в свои апартаменты, то он увидел его одетым по-дорожному. Стефран стоял посреди гостиной, ничего не выдавало его внутренних страданий.
Управляющий, невольно обрадовался отъезду Стефана, и приказал побыстрее подать ему машину, и уже через час его любимец без сожаления покинул имение, где провел почти все лето.
К вечеру следующего дня, он уже был дома. Его встретили все домашние с печальными лицами, сожалея о случившемся с пани Александрой.
Он, не говоря ни слова, с букетом полевых цветов, понуро шел по саду к месту, как ему сообщили находиться могилка Шуры., и, страшно подумать, его сына-первенца.
На возвышенности, в негустом перелеске, он вскоре увидел сиротливо возвысившийся холмик земли. На надгробной плите надпись гласила, что здесь покоится прах пани Александры. О том, что там покоится и его сын – ни слова.
Стефан упал на колени, прижавшись грудью к могиле, слезы по утраченному счастью так и брызнули из глаз. Вспомнив, что не положил ее любимые цветы, разложил их у изголовья. Ему никто не мешал, и он плакал, не стесняясь своих слез, но чувство вины не уменьшилось, а все росло, и внутренний голос твердил, что он отпетый негодяй и эгоист. Но как он не старался, ему не удавалось представить свою любимую мертвой. Непонятное чувство ему говорило об обратном. Он так и не поверил, что она мертва, хотя ее последнее пристанище трогал руками, видел глазами, но в душе так и не смирился с ее кончиной.
В это время, в каменном бункере, в более просторной комнате, куда перевели Шуру. Якобы для того, чтобы ей облегчить выход в отгороженный участок сада, она счастливая, радостная, с умильной улыбкой на устах, кормила грудью румяного крепыша, сына Стефана. Радость материнского счастья омрачало воспоминание о Стефане, который так рано ушел из жизни, не испытав счастья отцовства.
Стефан почти под утро оставил место, где мысленно простился с Шурой, но не принял сердцем ее смерть, родные увидели в его волосах белую прядь, а в его прекрасных глазах застыла грусть. Он тяжело, по-мужски страдал.
Родители ему не мешали, не соболезнуя ему, не утешая, за что в душе он был благодарен.
Отец предложил ему спуститься в бункер, но он отказался, категорически заявил, что он больше никогда не войдет под своды бункера, что не могло не вызвать довольной улыбки на лице пана Страшевского.
В это время вошла Каталина, тетя Стефана и пригласила его к себе, радостно глядя ему в глаза, произнесла с гордостью:
- Хочу поделиться с тобой, племянничек, своей радостью, познакомить тебя со своим сыном, и твоим «двоюродным братишкой».
Стефан, радуясь за нее, тот час согласился, и уже через полчаса носил на руках своего «двоюродного», удивляясь его черно соболиным бровям, про себя думал: «Мой сын мог быть таким же».
Каталина, как тараторка, трещала без умолку, заявила, что скоро состоятся крестины Яныка, так она назвала своего сына, а кокетливо прищурив глаза, ластясь к нему, назвала Стешей, как обычно называл в самых близких по-родственному, конечно, отношениях.
- Знаешь, Стешенька, мы с Зюзей хотели бы знаешь чего? Чтобы ты со своей нареченной, да, да, не протестуй, мне все известно, - погрозила она пальчиком, когда он удивленно поднял брови, - так вот мы бы хотели, чтобы ты с Изольдой стали нашему сыну крестными родителями. Но в это время случилось то, что случается с мальцами – горячая струйка жидкости потекла по животу Стефана, устремляясь вниз. Стефан от неожиданности растерялся, а малец открыл свои светло-коричневые глазенки, в которых играли золотые искорки, и Стефан только успел подумать: «Где я видел эти глаза?»
Каталина засмеялась, подмигивая Стефану: «Ничего, племянничек, привыкай, - и нажала кнопку. В соседней комнате зазвенел звонок. Вышла чем-то недовольная Марта, и унесла малыша.
Стефан растерянно смотрел на свою тетушку с ее короткими вразлет бровями и невольно подумал: « От кого мальчонка унаследовал такие длинные, черно-соболиные брови? – но так его мысль и осталась витать в воздухе, Каталина не давала ему ни о чем думать, все, тараторя о крестинах, да и так о всякой всячине.
Она со Стефаном была почти одного возраста, в детстве часто они играли вместе, дрались, и это давало ей право на панибратство, да еще с некоторым превосходством, шутливо надув губки, она говорила:
- Ты вот меня совсем не слушаешь, а я говорю о том, откуда знаю твою нареченную, - теребя рукав его рубашки, она продолжала. Приезжала пани Владислава Яблонская, заказала дюжину платьев пани Ядвиге, и вот оставила, - она протянула Стефану визитную карточку Яблонских.
Стефан растерянно рассматривал визитную карточку Яблонских, в душе думал, что вовсе не соскучился по Изольде.
- У них скоро состоится какое-то семейное празднество. Мы все, и ты, в том числе приглашены.
Стефану почему-то стало тоскливо, ему казалось, что посягают на его свободу, и он поспешил покинуть покои Каталины. Ему так хотелось побыть одному, разобраться со своими мыслями, а боль по Шуре не давала ему покоя, хоть как он не старался упорядочить свои мысли и чувства.
Но, как говорят время лечит, первая горечь утраты притупилась, тем более, что ему не давали бывать одному, и Стефан невольно включился в общий ритм жизни.
На половине Каталины, полным ходом шла подготовка к крестинам Яныка. Катарина все подбирала себе наряд, желая затмить всех. Пани Ядвига не уставала говорить о семейном празднике у панов Яьлонских, при этом, не переставая восхищаться красотой Изольды, с пониманием глядя Стефану в глаза.
Стефан под ее явным натиском смущенно пожимал плечами, думая про себя как люди любят устраивать чужие судьбы, например, здесь, как могут решать за меня, - но не сопротивлялся: «Пусть все идет своим чередом, ведь рано ли, поздно ли – жениться все равно придется. Мне почему-то безразлично на ком».
Пан Страшевский занимался восстановлением своей псарни, пострадавшей во время войны, пропадая там целыми днями, мог без устали рассказывать о достоинствах того или иного кобеля.
А вскоре состоялось семейное торжество в доме Яблонских, и как, оказалось, по случаю дня рождения хозяина дома, то есть супруга пани Владиславы. Здесь пан Стефан попал в полное пленение очаровательной панночки Изольды. Она была не только ослепительно красива в своем непорочном целомудрии, но и часто вызывала улыбку восхищения у Стефана своими меткими остротами в адрес собравшихся гостей.
- Ей в уме и сообразительности не откажешь, - удивлялся Стефан, глядя на ее изящную фигурку, послушно следуя ее капризам.
Пани Ядвига, после посещения семейного торжества Яблонских стала в открытую говорить о помолвке Стефана с Изольдой. Видя колебание сына, начинала нервничать, повышать тон своего голоса: «Не понимаю, чего тебе нужно? Ведь девушка и красива, и умна, да и партия одна из лучших».
Он вынужден был согласиться, что действительно лучшей партии ему не найти, люди состоятельные, всеми уважаемые, да и панночка одна из самых блистательных красавец, постепенно склоняясь к помолвке.
Так они часто беседовали с матерью, и их беседы, как обычно прерывала пани Катарина, бесцеремонно врываясь на их половину.
Дело в том, что маленькому Яныку скоро исполнялся годик, и Катарина именно к этой дате решила приурочит крестины, все беспокоилась, все бегала советоваться, то по одному, то по другому поводу.
Шура готовилась встретить день рождение своего сына по-своему, мечтая побыть с ним подольше на свежем воздухе, в отгороженной части сада, где она часто проводила с ним, самое счастливое для них обоих, время. Мальчик радовался общению с матерью, а она восхищалась его смышленым умом, радуясь его крепкому здоровью.
И вот настал желанный для Шуры день, Марта с утра принесла сладости, бутылку вина, букетик любимых Шуриных цветов, это Ядвига поздравила ее с днем рождением ее сына.
Сама она обещала навестить счастливую мать попозже, так как в данное время захлестнули, мол, неотложные дела.
Шура по случаю своего семейного праздника оделась понаряднее, и самая счастливая из всех матерей ожидала, когда Марта принесет ее дорогого именинника. Она еще ни разу не ждала его с таким трепетным нетерпением, все подъезжала на своей каталке, поправляя то там, то сям. Но время шло, а Марта с ребенком все не появлялась
Шура, ожидаючи, прямо извелась, но что она могла поделать, отгороженная от всего мира каменными стенами, ставшего ей, именно сегодня так ненавистным бункера. Она попыталась, было выйти в свой укромный уголок сада, но дверь по неизвестной причине оказалась запертой. Несчастная женщина, металась из угла в угол на своей колясочке день напролет, плача навзрыв.
Только поздним вечером, когда истерзанная ожиданиями мать, уже не надеясь увидеть свое единственное дитя, свою единственную радость, которая только одна и давала ей стимул жить, заявилась эта двуликая холопка Марта, изрядно подвыпившая, рассказала Шуре, что виновата перед нею, но не по своей воле, а мол пани Ядвига, бабушка Яныка, решила в день рождение, окрестить своего единственного внука, но не знала, что это займет так много времени. Сердце бабушки разрывалось на части при виде недетских переживаний ее внука, вызванных длительной разлукой с матерью. Она даже не знала, что ребенок такого возраста может питать такие сильные чувства к своей матери.
Истерзанное сердце матери только и уловило, что ее сынок ее очень любит, и тут же все простило при виде зареванного личика сынишки. Она вновь обрела счастье, счастье общения с ним, но ее счастье стало еще сильней, когда Марта заявила, что Янык останется с нею до утра. Счастливая Шура в эту ночь спать так и не легла, просидела всю ночь у изголовья, спящего сыночка.
Мальчик спал беспокойнее, а причиной были прорезавшиеся зубки.
Каждый его всхлип, вскрик, стон вызывали острую боль в сердце матери.
А наверху в празднично убранных покоях панов Волоских шло празднование дня рождения их сына Яна, да по случаю его крещения. Пани Катарина, как никогда нарядная, по случаю семейного торжества, весело вальсировала, то с одним, то с другим кавалером, начисто позабыв, о своем сыне.
Здесь же находились Стефан и его нареченная Изольда. Они объявили о намерении пожениться за несколько дней до дня рождения Яныка, дабы стать его крестными родителями. Так что причин для веселья было больше, чем достаточно.
Когда на следующий день, чуть ли не в обед пришла Марта, то удивилась Шуре, откуда у этой обездоленной калеки берутся силы, откуда столько оптимизма и добра? Знал бы пан Стефан кого он потерял? Знал бы, что она жива?»
Только Марта знала, как тоскует пан Стефан по Шуре. Именно у нее Марты, он интересовался, как могло случится, что Шура умерла, ведь доктор, что принимал роды – опытный, на что Марта отвечала, что не знает, как это случилось, так как при родах пани Александры не присутствовала. Ей часто приходилось видеть его скорбящим на мнимой могилке своей «бывшей» возлюбленной, даже в день помолвки его с Изольдой, он положил любимые цветы Шуры на ее могилку, и склонив голову простоял в такой позе длительное время. Только он знал, что в это время творилось в его душе.
После крестин на половине Волоских наступило затишье, зато у Страшевских чувствовалось волнение, даже нервозность. Здесь, тщательно продумывая все детали, готовились к бракосочетанию молодых.
Под общее восхищение домашних его избранницей Стефан все больше увлекался ею, принимая это за любовь.
И вот в один из дней пани Ядвига заявилась к Шуре и без всяких обиняков предложила той создать лучшую модель свадебного платья для юной невесты.
Шуре предложение понравилось, и она целыми днями, включая вечера, сидела над созданием свадебного наряда, продумывая каждую его детальку с особой тщательностью. Она еще никогда не работала с таким энтузиазмом, и действительно ей удалось в короткий срок создать что-то уникальное, неповторимое в своей оригинальности. Ей еще очень хотелось отблагодарить пани Ядвигу за доброту, которую та проявляла к ней и ее сыну. Ведь она даже не могла заподозрить столь жестокого обмана со стороны своих покровителей, поверив им, что Стефан умер. Не могла даже заподозрить, что шьет свадебный наряд его избраннице.
Пани Ядвига была в восторге, от столь оригинального свадебного наряда, ведь все это якобы сделано ее руками. Помявшись, протянула Шуре фотографию девушки с очаровательной улыбкой. Девушка, изображенная на фото, Шуре понравилась, и она внимательно с удовольствием его рассматривала.
Пани Ядвига, видя с каким интересом, Шура рассматривает девушку, как-то нерешительно попросила:
- Пани Александра, говорят, что вы обладаете даром предвидения, скажите, просто для любопытства, будет эта хрупкая, очаровательная особа счастлива в браке, к которому она так уверенно и беззаботно стремится?
Шура удивленно подняла брови:
- Кто эта пани, что так вас интересует ее судьба? Насколько мне известно у вас нет такого возраста племянниц?
- Не то, что интересует, милочка, просто хотелось бы знать.
- Ладно раз так, попробую, - и она закрыла глаза, погружаясь в транс.
Пани Ядвига сидела, не шевелясь, терпеливо ожидая ответа на поставленный вопрос, ведь это касалось и ее сына.
По истечению некоторого времени Шура обычно медленно приоткрыла глаза и уж очень обыденным голосом произнесла:
- Эта панночка выходит замуж за человека, испытавшего испепеляющую страсть к женщине не своего сословия. После пережитого он не сможет отдаться любви без остатка, если это будет устраивать панночку, то она будет счастлива.
Пани Ядвига минуту осмысливала сказанное, подозрительно посмотрела в глаза Шуре и ушла, не поблагодарив.
Встретив Марту, она сделала той выговор за ее длинный язык, обвиняя ее в том, что она оповестила пани Александру, что пан Стефан жив и берет в жены пани Изольду. На что Марта, несправедливо обиженная, ответила, что себя не считает сумасшедшей, за какие такие ши-ши ей сообщать об этом Шуре: «Да и вы мне неплохую прибавку к жалованию платите, чтоб я молчала. Как вы можете, пани Ядвига, я самая верная холопка».
- Ну ладно, ладно, иди, делай свое дело, - перебила она холопку, - Я просто проверила, умеешь ли ты молчать».
Бракосочетание молодых должно было состояться в одно из воскресений осени, когда летняя жара спала, осенняя непогода еще не наступила.
Шура много и неустанно работавшая, все эти дни, радовалась, что наконец, сможет отдохнуть, подышать свежим воздухом, в своем уголке, где отдыхала всегда, ей не хватало солнечного тепла, от подземной сырости болели кости, не говоря уже о культях ног, и если такие минуты выпадали, когда можно было отдохнуть, погреться в лучах солнца, то она, конечно, радовалась.
Этим воскресным днем ей почему-то с самого утра было грустно, страшно тоскливо, вспомнилась Москва, хотелось домой, увидеть отца, показать ему своего сына.
«То-то бы отец обрадовался, у него самого так и не было сына, пусть бы порадовался на внука, - грустно думала она, как-то туманно видя образ отца.
Она сидела сама в отведенной части сада, Янык с Мартой ушли на прогулку. Солнышко изрядно припекало, и она разморенная его ласковым теплом, задремала.
Сколько длилось ее забытье, она сама не знала, но проснулась от торжественного гула колоколов.
Колокольный звон несся напористыми волнами от ближайшего костела. А как раз на днях Марта говорила, что под звуки такого звона колоколов идет венчание особ знатных фамилий.
«Да, кто-то, видимо, знатный венчается, уж слишком торжественно звучат колокола, - дуала Шура, покрываясь пупырышками.
Уже поздно вечером вернулась с прогулки Янык с Мартой, и Марта объявила, что Янык останется с Шурой на всю ночь, чему ласковая, заботливая мать обрадовалась, даже не задумываясь о том, что могло случиться, что Яныка отдали ей на всю ночь, что бывало редко.
В это время в усадьбе Страшевских, в саду, шло свадебное пиршество. Хоть страна еще не оправилась от немецких захватчиков, столы стояли накрытые всякой снедью, играла музыка, собравшиеся поздравляли молодых, дарили подарки, желая долгих лет семейного счастья, любви до гробовой доски, много детишек.
Счастливая пани Ядвига гордилась выбором своего сына, радовалась, что породнилась с благородным семейством, но особая гордость распирала ее по поводу красавицы невестки.
Все складывалось, казалось, ну куда уж лучше. Свадьба прошла спокойно, торжественно, все хорошо погуляли, отдохнули.
Молодые сразу после свадьбы уехали в свадебное путешествие по Италии с обязательным посещением жемчужного мира Венеции.
Изольда чувствовала себя наисчастливейшей из женщин, предвкушая получить еще больше счастья от медового месяца. А вот пан Стефан уезжал без особой охоты, ему не хотелось покидать могилку пани Александры, но делал вид, что счастлив. Вся родня собирала их в дорогу, и они, наконец, уехали. Вслед за ними уехали отдохнуть, и увезли с собой Яныка пани Каталина с паном Зюзей.
Шура, не по собственно воле осталась одна, страшно скучала, плакала, не находя себе места, но пани Ядвига часто навещала ее, пыталась ей втолковать, что ее Ядвигиному, внуку даже очень полезны такие путешествия для здоровья, для развития, с чем Шура соглашалась, но это не уменьшало ее страданий при разлуке с сыном.
Молодые супруги Страшевские прибыв в Италию, конечно, остановились в Венеции в одном из наилучших отелей. Вначале новые впечатления, новое окружение благоприятно сказывалось на их отношениях. Они большую часть времени проводили на воздухе, катаясь на гондолах. Завтракали в отеле, а обедали в ресторанах, возвращаясь поздно вечером в свой номер, падали в постели и сразу засыпали.
Стефану казалось, что он счастлив. «Что еще нужно человеку? Красив, здоров, неплохо обеспечен материально, рядо красавица – жена.» Но иллюзия счастья длилась недолго. Не прошло и недели их супружеской жизни, как Изольда забеременела, сразу почувствовав себя прескверно. Ее мучила тошнота, рвота, и она полностью разбитая, пластом лежала на спальной ложе, отказываясь от прогулок, еды, питья,таяла на глазах. Под глазами появились синяки, нос заострился, лицо побледнело, вытянулось, осунулось. Куда подевалась та сияющая красавица?
Стефан не знал, что делать. Но самое страшное заключалось в том, что он понял, что не любит своей жены, и никогда не сможет полюбить. Он смотрел на нее, как на постороннюю, не воспринимая ее сердцем, не впуская в тайники своей души.
Она не вошла в его жизнь, так и оставшись за ее пределами. Сейчас, когда она так внезапно забеременела, он не мог сдержать своего негодования, раздражаясь при ее постоянных стенаниях. Она ему напоминала мокрицу, и как он не старался не мог найти для нее уголка в своей душе, не находил ласковых слов, хоть как не старался. Она постоянно жаловалась на боли внизу живота, на непереносимость запаха пищи, а его это не беспокоило, а раздражало, даже злило.
Она упрекала его в том, что он ее разлюбил, или вообще никогда не любил, что им не надо было жениться.
Он молчал, в душе с нею соглашаясь, и еще больше от нее отчуждался.
Так они провели день за днем свой медовый месяц, далекие, чужие друг другу. Стефан стал подумывать о возвращении домой.
Изольда, хоть так страдала, и думать об этом не хотела: « Что скажут подруги? Как на это посмотрят родители?»
Он уходил из отеля, где они пытались показывать хотя бы вид влюбленных, под предлогом поискать лекарство от тошноты, рвоты, подолгу не возвращался, сидя где-нибудь в ресторане за рюмочкой спиртного.
Изольда одна в чужом городе чувствовала себя покинутой, обманутой в своих лучших чувствах, с рухнувшими надеждами на безоблачное счастье, плакала, как маленький ребенок, которого несправедливо наказали.
Он, если не сидел в ресторане, то подсаживался в гондолу к каким-нибудь туристам, лишь бы скоротать время и постоянно задавал себе вопрос: « Почему она во мне не вызывает даже чувства сострадания. Почему ее столь красивое тело не вызывает в моей крови ни волнения, ни вожделения? Может быть я болен? Я ее вижу просто красивым каменным изваянием. Точно, я нуждаюсь в лечении».
Но, стоило ему вспомнить о времени проведенном с Шурой, как кровь закипала, стуча молотками в висках. Хотелось выть волком, биться головой о стену. Чтобы он не отдал, чтоб хоть на мгновение вернуться в каменный бункер, где он был так счастлив. Но, что поделаешь? Александры больше нет, а жить надо, но как? Как? Когда во мне что-то умерло? Я вовсе не тот, кем был, я почти мертвец, а может просто идиот, если заставляю страдать столь прекрасное создание, как Изольда, - и он решил, что будет с нею ласков, внимателен, заботлив, постарается полюбить ее всем сердцем, душой. И когда вернулся в отель, а Изольда сидела на тахте, бледная, маленькая, такая очаровательная в своей беспомощности при серьезном столкновении с жизнью, то у него по-настоящему защемило сердце, защипало в носу, а тут зазвучал голос: « Милый, я долго думала и решила, что самое умное, что нам надо сделать, так это вернуться домой. Прости меня, любимый, что испортила наш медовый месяц. Я до замужества, как-то не думала о беременности, представляя жизнь сплошным праздником, и наказана за это».
Ему стало так жалко эту юную, неопытную девочку, такую трогательно наивную, что он припал к ее стопам, стал покрывать поцелуями ее милые ножки, ручки, лицо, прижался к ее упругому, юному лону, где уже развивалось посеянное им семя. «Все-таки я люблю ее. Это временные трудности, все наладится, наверное, я очень тяжело перенес потерю Александры и сказал ей просто ласково: « Любимая моя, беременность-это великое счастье, а не наказание, не надо считать себя наказанной, надо радоваться, что Господь приобщил нас обоих к тайне зарождения жизни», - и, подхватив ее на руки, закружился по комнате, по-настоящему испытывая счастье.
Она впервые за последние дни улыбнулась, обвив его шею руками, игриво прошептала: «Я буду сильной, вот увидишь, милый, ты больше не услышишь от меня жалоб, только уедем отсюда».
Он, конечно, с радостью согласился с нею, и они весело начали укладывать чемоданы, собираясь в дорогу.
Добирались домой, сравнительно долго, но у них сложились довольно неплохие доверительные отношения. Изольда действительно перестала жаловаться, а Стефан был само внимание по отношению к ней. Вот молодая чета и дома, уставшие, но счастливые. Встречали их пани Вячеслава с радостной улыбкой, но когда увидела свою дочь побледневшей с синими кругами вокруг глаз, то горестно всплеснула руками, на чем свет стоял, набросилась на Стефана:
- Как вы могли, что вы сделали с моей дочерью? Моя кровиночка, что с тобой сделали?
Изольда с настоящими рыданиями бросилась в материнские объятья, тем самым, установив непреодолимую дистанцию в отношениях со своим супругом.
Стефан стоял в сторонке потупившись, как нашкодивший мальчишка, действительно чувствуя себя виноватым.
«Я то думал, что сумею полюбить эту размазню. Никогда!» - и хлопнув дверью, выскочил из комнаты, оставив свою жену со своей матерью, где Изольда изощренно жаловалась матери, как она несчастна в браке.
Последующие девять месяцев беременности Изольды стали для Стефана сущим адом и показались вечностью. Постоянные стенания жены, ее суеверный страх перед смертью (ей почему-то казалось, что она обязательно умрет во время родов) и это вызывало еще больший страх за нее у ее матери. Все эти ее стенания, страхи, как ни странно не вызывали сочувствия в душе Стефана, а напоминали о Шуре, которая никогда не жаловалась на свое положение, а была только неслыханно счастлива. Он так тяжело страдал, скобил о потерянной любви, как умеют, делать только настоящие мужчины, скрытно от всех домашних посещал «могилку» пани Александры, где старался уйти от действительности, жалуясь ей на свои невзгоды.
Все, в конце концов, заканчивается, так и тут, срок беременности подошел к критической точки, наступил долгожданный день родов. К роженице были вызваны лучшие акушеры и, вопреки всем страхам, роды прошли благополучно и сравнительно легко, Изольда разрешилась девочкой.
Ей показали дочурку и тут же унесли, передали кормилице, а Изольде перевязали набухшую грудь, дабы не испортить фигуры.
Здоровая, пышногрудая кормилица заменила девочке мать, а ее родная мать мало ей интересовалась, чего нельзя было сказать о Стефане, он, не понятый своей супругой, привязался к дочурке всем сердцем, подолгу просиживая у ее колыбели.
С Изольдой отношения по-прежнему оставались натянутыми, он все больше охладевал к ней, как к женщине. Если ей и удавалось заманить его в постель, то обязательно после этого они сорились.
Стефан соглашался, что его жена и красива, и по-своему умна, но она его не волновала, как женщина. Он часами мог лежать с ней рядом в постели, и у него не возникало к ней желания, не влекло к ней. Конечно, это не могло ее не злить, и она начинала ругаться, как самая обыкновенная баба. Чувствуя себя униженной, она жаловалась матери, а мать смотрела на зятя злой волчицей, что еще больше усугубляло отношение супругов. В такие минуты Стефан невольно отдавался воспоминаниям о Шуре: «Как я был счастлив! Если б она была жива….» - и он терялся, не зная, чтобы было.
Шура даже не подозревала, что он находится рядом, жила своей жизнью, то обливаясь горючими слезами, то чувствуя себя наисчастливейшей женщиной, матерью. Ее сынок Янык рос здоровым, покладистым, послушным, а главное любящим. А вот на днях вернулся из путешествия по морю, куда отправлялся со своими родителями Каталиной и Зюзей, и доставил ей огромную радость, тем, что доказал, как он по ней соскучился, как любит ее. Обняв ее своими еще неокрепшими руками, шептал:
- Мамочка, я тебя люблю, люблю больше мамы Каталины, больше папы Зюзи. Ты моя мама. Правда ты?
- Ну, конечно, сынок, какие могут быть сомнения, и я тебя тоже очень люблю.
- Мама, а мама Каталина не любит Яныка.
Шура же уверенная в том, что, у пани Каталины сынишку тоже зовут Яныком, возразила:
- Нет, сынок, она очень любит Яныка.
Мальчик ни с того, ни с сего затопал ножками, закричал, что с ним редко случалось:
- Нет! Нет! Она не любит Яныка.
- Нельзя так, сыночек, право ты как маленький, не обращай на них внимания, это их дело, они разберутся между собой, - и постаралась отвлечь внимание сына на другое.
В общении с нею мальчик чувствовал себя уверенным, спокойным и мог играть часами, забывая о том, что он в бункере, не просился на верхние этажи. Они часто играли в отгороженной части сада, где у него была песочница, игрушечная лошадка, даже качели.
Однажды, когда они были заняты игрой, как никогда, видимо, смеясь громче обычного, Шура увидела сквозь изгородь, большие синие глазенки, внимательно с интересом следившие за ними. Это были детские глаза василькового цвета, наивные, добрые глаза, но Шура так испугалась, точно увидела змею. Ничего, не объясняя сынишке, она постаралась увести его в подземные помещения, плотно прикрыв дверь.
Янык, не понимая, что случилось, вопрошающе смотрел на мать, и тут послышался плач ребенка, по-видимому, девочки, она капризно требовала поиграть там за изгородью, где играет мальчик.
Женский голос отчитывал ее за непослушание, после чего Шура услышала голос пани Ядвиги, та ругала няню девочки, за то, что не смотрит за ребенком.
После этого случая Шура стала осторожнее «выходить» подышать воздухом, больше по ночам. Янык же все чаще гулял с Мартой.
В семье пана Стефана гармонии так и не наступило, назревал полный разрыв супружеских отношений и он, считая себя больным, обратился к врачам.
Доктор по интимным сторонам жизни, своим откровенно сердечным обращением, вызвал у него доверие, и он ему все выложил, как есть на самом деле, утаив свои бывшие отношения с Шурой.
Доктор внимательно осмотрел его и, не найдя ничего патологического, на основании того, что выслушал из уст Стефана, сделал вывод, удививший молодого человека. Вот, что он сказал:
- Я , пан Стефан, не хочу показаться навязчивым, да и не имею права вмешиваться в вашу личную жизнь, но смею заверить вас, что вы, хотите соглашайтесь со мной, хотите нет, пережили губительную страсть к женщине, после чего у вас умерли желания к другим женщинам, - и поставил диагноз: «наверное истощение», - продолжая давать советы, наставления на основе врачебного права:
- Мой личный вам совет уйти из дому, не развестись, нет, а совершить длительное путешествие, желательно по экзотическим странам Востока. Это вас полностью восстановит, вернет в себе уверенность, воскресит интерес к жизни, и вы уведите мир другими глазами. Но путешествовать надо одному, ни в коем случае не с супругой.
Стефан в душе был ему очень и очень благодарен даже только за то, что он понял его, и, не откладывая в долгий ящик, решил претворить его совет в жизнь. Его смущало одно, как объяснить свой отъезд домашним.
Но его волнения оказались напрасными, домашние даже обрадовались такому положению дел, и он незамедлительно уехал в путешествие по Индии и другим восточным странам.
Первые дни своего отрыва от семьи, он просто отдыхал от домашней обстановки, радуясь новым лицам, новым странам, городам. Но, когда его мысли упорядочились, когда он днями и ночами бывал наедине с собой, со своими воспоминаниями, то ему стали сниться сновидения, да такие яркие, и в этих сновидениях ему являлась Шура с сыном на руках, которого он никогда «не видел», и его удивляло, что его родной сын был по неясной причине сыном Каталины, то есть его крестник Янык.
«Надо же такому присниться, - а дальше его сновидения еще больше удивляли, он удивлялся, говорил, - такое даже нарочно не придумаешь. Ему снилась заснеженная тайга, и где-то там на ее бескрайих просторах, в Сибири, где находился лагерь для политзаключенных, обнесенных колючей проволокой. Его охраняли охранники с собаками, но самое главное было то, что среди заключенных отбывала какое-то наказание пани Александра. Его Александра среди заключенных. Сновидения повторялись из ночи в ночь, он ясно видел в них тайгу, о которой толком ничего не знал, а она снилась, как наяву, заснеженная, бесконечная, и в далеких дебрях, на вольных просторах, затерявшаяся точка лагеря, для заключенных, где находилась Шура.
Он старался подолгу не засыпать, старался не думать об увиденном во сне, но только засыпал, и снова видел Сибирь с ее бесконечными просторами, во всей ее гордой, жестокой красе, девственной, непреступной красе.
Он стал суеверным, стал верить в загробный мир, ведь он считал Шуру умершей, поэтому думал, что ему снится потусторонний мир, где и живут души умерших, и вот под впечатлением снов, он все больше склонялся к этому, не в силах объяснить странные сновидения.
В мире же происходили великие события, мир кроился, делился. Одни государства исчезали с карты мира, другие появлялись. В Польше шло становление народной власти. Люди, имевшие хоть какой-нибудь достаток, затаились, ведь времена были смутными, трудными для всех сословий общества. Пан Страшевский страшно гордился собой, что в свое время не дал Шуре умереть, хотя сам себе не мог объяснить своего поступка, но теперь рассчитывал на благосклонность новой власти.
В газете «Красный Крест» он нашел маленькую статью, о том, что разыскивается пропавшая во времена войны советская девушка, прилагалась фотография, дальше просьба, если хоть кто- нибудь знает о девушке сообщить по адресу, и указывался адрес в Москве. Пан Страшевский покрылся мелкими цыпками, когда увидел фото. На него с фотографии смотрела юная красавица Шура, веселая, жизнерадостная, полная сил и надежд.
Он долго мучился сомнениями, не зная, как поступить.
- А, что, если воспримут историю с Шурой, как эксплуатацию. Ведь она много работала и получается вроде бы, как на нас.
Он подолгу разговаривал с Шурой, и из разговора понял, что она кроме благодарности к его семье и большой признательности ничего другого не питает и не может питать. А что работала, так это ей помогало жить, ведь ее никто не заставлял работать, просто без работы она не дожила до сегодняшнего дня.
После очередной беседы с Шурой, он, посоветовавшись с домашними, решил обратиться в организацию красного креста и сообщить, что знает местонахождение советской девушки, которую разыскивают. Долго ему пришлось взвешивать все за и против, но все-таки пришлось сообщить.
Не прошло и месяца, как работники красного креста среагировали на его заявление. В его дом пожаловали советские чекисты, люди в погонах, взыскательные, подозрительные. Учинили пану Страшевскому настоящий допрос.
Так Шура попала в руки советских властей и увезена в Советский Союз. Ее разлучили с сыном, но это сделала она сама добровольно, даже не заикнувшись о том, что у нее есть сын.
Пани Ядвига заверила ее, что ее родной Янык, а шурин сын, никогда не будет испытывать нужды.
- Мы для него, дорогая, сделали все, что от нас зависит. Он получит хорошее образование и все необходимое. За сына будь спокойна, да простит нас Бог.
Шуру, как преступницу, увезли в черном воронке на аэровокзал, оттуда на самолете на родину, то есть в Советский Союз. Страшные то были времена, всех людей побывавших в плену, объявляли предателями Родины, врагами народа. Не учитывалось, был ты во время пленения в сознании или, безсознания, здоров, или тяжело ранен.
На родине, в Советском Союзе Шуре пришлось сотни раз рассказывать, как она оказалась в Польше, как потеряла ноги, как вернулась почти с того света, спасенная польским врачом, как не имела ни малейшей возможности сообщить что-либо о себе, узнать о своих товарищах, но ее судьба не вызвала ни малейшего сочувствия в черствых сердцах работников КГБ.
Ее осудили к десяти годам лишения свободы и отправили в Сибирь с очередной партией осужденных, побывавших в плену, для отбывания наказания. Ее считали пленной, хотя она себя считала спасенной гражданами Польши.
Сказать, что Шуре было тяжело, это ничего не сказать, ей было прескверно, приходилось терпеть адские муки. Другие заключенные хотя бы имели ноги, а ей каково было без ног? Благо, хотя бы не забрали у нее средство передвижения.
Первое время она очень мерзла, особенно культи ног, причиняли нестерпимые боли. По ночам страшно зудели давно ампутированные ноги.
Просыпаясь по ночам, она не могла себе места найти, но мир не без добрых людей. Ей, можно сказать, несказанно повезло, что она попала в группу добрых, порядочных, сердечных женщин.
Эти милые труженицы сами страдали, видя страдания Шуры, и посоветовавшись решили состричь свои волосы, включая и ее дивные косы, и сшили для нее не то шорты, не то что-то для ее нижней части тела. Оно напоминало стеганку на подкладке, утепленную толстым слоем женских волос. Оно не только спасало Шуру от холодов в самые лютые сибирские морозы. Ей дали работу на кухне, приходилось вставать в четыре часа утра и с другими заключенными отправляться на своей колясочке на тюремный пищеблок, где приходилось чистить картошку, выполнять другую самую грязную работу. Но она никогда не жаловалась, и женщины полюбили ее за порядочность, серьезную доброту, трудолюбие.
За работой Шура не так тяжело переносила разлуку с Яныком, забывала о своем увечье. После работы уставшая, замерзшая, полуголодная, только касалась головой подушки, как тут же отключалась. Проходили годы, похожие один на другой, как близнецы, а Шура не имела весточки о сыне, приходилось только уповать на Бога. Здесь она поверила в Бога, доверяя ему свои тайны, свои душевные страдания, и он, по-видимому, услышал ее мольбы, стоило ей у него попросить показать сыночка хоть во сне, как тут же сын являлся. Снился живым, здоровым, добрым, заботливым, и всегда обещал найти ее, разыскать хоть что бы ему это не стоило. Она просыпалась счастливая оттого, что он ей кричал на прощание: «Мама, я все равно тебя найду!»
Женщины переглядывались, указывали на нее, радовались за нее.
Трудно передать муки и страдания, которые пришлось пережить бедной, безногой женщине в лагере, но она выдюжила, отсидев десять лет от звонка до звонка, десять длинных, страшных лет, которые просидела сама, не зная за что.
Выйдя на свободу, Шура не знала куда податься, хотела к отцу, но он ей отказал, фактически отказался от нее, как от дочери, ссылаясь на свою новую семью, но она на него зла не держала, а вскоре одна из заключенных предложила ей поехать с нею на юг Молдавии, где она и жила, пока ее не разыскали работники внутренних дел.
Вездесущие чекисты разыскали ее, так как на ее имя был открыт счет в банке с довольно приличной суммой денег. Когда было установлено, что это пожертвование хозяина, где она жила и работала, то ее срочно начали искать, и нашли, обратили на нее внимание, выделив однокомнатную квартиру в Кишиневе на первом этаже, обустроив ее так, чтоб она могла жить без посторонней помощи. Так и жила она одиноко, свыклась со своей участью, уже ничего не ожидая от жизни, только мучила тоска по сыну. Она все эти годы лелеяла мечту встретить сына, но все это переживала в себе, боясь, не дай Бог, навредить ему.
Но ее не забыли. Прошло еще долгих десять лет после тюремных мытарств, как к ней явился человек из КГБ. Предъявив документы, удостоверяющие личность. Он долго беседовал с нею, расспрашивая о жизни в Польше.
Шура, считая, что ей уже нечего терять, рассказала о своем сыне Яныке, которого оставила на попечении его дедушке и бабушке, и что не имеет о нем никаких вестей.
«Жив ли он, мертв, я не знаю, - закончила она повествование, взбудоражив память, утирая слезы натруженными руками.
Работник КГБ расспрашивал и о панах Волоских, но Шура ничего о них не знала, кроме того, что у них не знала, кроме того, что у них в одно время с рождением ее сына, тоже родился ребенок, и они его даже назвали тоже Яныком, как она своего.
- Вы их сына видели хоть раз?
- Нет, мил человек, видеть не видела, но слышать о нем, слышала.
- Гм, гм! – промычал беседующий, с нею товарищ, сверля ее глазами, и начал прогуливаться.
Шура после его ухода, все думала, припоминая разговор с непрошенным гостем, боясь не сболтнула ли лишнего, она за себя не беспокоилась, а боялась не навредила ли своему единственному сыну.
Но дело было в том, что ее разыскивал гражданин Польши Волоский Ян Зюзьевич, доказывая, что является родным сыном гражданки СССР Александры.
Конечно все тщательно проверялось, так ли это. Нет ли тут какого-нибудь подвоха? Ведь в то время во всем виделось вредительство, шпионаж, каждого могли заподозрить в измене Родине. А тут еще многое не совпадало с биографией Яна. Он считался родным сыном Волоских, в документах о рождении, именно, они указывались, как родители, с какой целью он доказывал, что является родным сыном Шуры?
Сам Янык смутно помнил Шуру, но помнил, как что-то самое светлое, теплое, самое родное, самое ласковое. Вот уже сам стал взрослым, и все не мог забыть ее ласковых рук, снимавших любую боль, никогда больше не ощущал того добра, которое она изливала на него, никогда больше не видел таких любящих глаз, поэтому пани Каталина, то есть мать по документам, попала в дорожную катастрофу, находясь в бессознательном состоянии, упоминала имя Александры, но когда у нее сознание прояснилось, он не удержался, расспрашивал о ней.
Каталина перед смертью, чувствуя свою вину перед Шурой, рассказала сыну, что в их доме, в каменном бункере, жила безногая женщина с именем Александра.
Каково же было его удивление, когда его мама Каталина рассказала о том, что его родной матерью, матерью по крови является, именно, она, Александра, а не она Каталина.
С этой минуты Янык потерял покой, задавшись целью разыскать свою родную мать, даже если потребуется для этого жизнь отдать.
И вот он стал обращаться во все инстанции, и везде постоянно встречал отказ, чуть ли не насмешку, но он не отчаивался, подавая запросы, заявления во все инстанции и терпеливо ждал результата.
Прошло около полутора лет, когда пришел ему личный вызов в органы высших инстанций, где ему и сообщили, что разыскали женщину по имени Александра. Она длительное время жила в Польше, якобы в семейном плену. Женщина эта без обеих ног говорит, что родила сына, уже, будучи без ног, что он остался в Польше на попечении бабушки с дедушкой, когда ее увезли в Советский Союз.
Когда Ян услышал, что ее увезли в Советский Союз, то ему стало дурно, а, придя, в себя почти закричал: « Да, это моя мать, она была русской. Но не пойму, почему она говорит, что оставила меня на попечении моих бабушки и дедушки, когда их у меня нет, и насколько я помню, не было. Во всяком случае, я их не помню».
Его не перебивали, снисходительно выслушали и сообщили адрес его матери, и с этого дня он стал обивать пороги разных правительственных учреждений, добиваясь въезда в Советский Союз, что тогда почти не было возможным
Но вот все мытарства позади и Ян собственной персоной регистрировал свой приезд в Кишинев, в КГБ и органах милиции.
Шуру на этот раз посетил участковый милиционер, сообщив, что к ней завтра зайдет ее родной сын, что он уже здесь в Кишиневе, улаживает простые формальности своего приезда.
Шура при сообщении о сыне размякла, осев кулем на своей колясочке. Участковому пришлось оказывать ей помощь, даже вызывать скорую.
На другой день, с утра, успокоенная, счастливая, принаряженная Шура с нетерпением ждала встречи с сыном, с ее единственной кровиночкой, так жестоко отняла у нее судьба.
Сын не замедлив явиться. К подъезду подъехала легковая машина, из нее вышел шикарного вида иностранец. Кумушки, сидящие на лавочках, наблюдали за ним, боясь пропустить хоть единое его движение: « Ай, да, Шура! Вот это сын, вот тебе и безногая! – с доброй завистью восхищались они Яном, подтрунивая над Шурой.
Иностранец с чемоданами, ворохами подарков для тех же кумушек, поспешал за носильщиками к квартире тети Шуры, как ее теперь здесь называли.
Их встречу, с ее восторгами и горестями описать простыми словами невозможно, это надо было видеть. Когда Шура увидела в проеме двери своего сына, то вздрогнула, побледнела, думая, что вернулась в молодость, за тридцать лет тому назад. Перед нею стоял вылитый Стефан. Она передала своему Яныку только густые, темно - соболиные брови, все остальное – глаза светлокоричневые, с золотистыми искорками. Те же, что у Стефана, упрямые, крепкие губы, тонкий прямой нос, овал лица, улыбка, телосложение, даже рост был точно таким.
Перед Яныком предстала уставшая, постаревшая раньше времени, женщина, со следами былой красоты, но без обеих ног. Во всяком случае, он, казалось, узнал ее по сияющим глазам, да темно-соболиным бровям, которые почти остались такими, какими запомнились ему с детских лет. Он опустился перед нею на колени, как перед святыней, орошая ее натруженные руки слезами сыновней любви, сожалея, что все эти годы им пришлось жить в разлуке.
В порыве материнской любви она, прижавшись к его волосам, шептала:
- Cынок, ты здесь, сынок! Мой сын, мой Янык, моя плоть от плоти, мой сын, моя кровинушка. Люди добрые, смотрите, мой сын».
Соседи даже не пытались скрывать своих слез, преподнесли успокоительные капли в стакане с водой, боясь за ее рассудок.
Но Шура, закаленная невзгодами жизни, не теряла рассудка, просто она не могла вместе той радости, что охватила ее существо, все время горестно думая:
«Мой взрослый сын, моя кровь и плоть, которого я не растила, не переживала вместе с ним его радостей, не делила его горестей, не ласкала его, не обшивала, не обстирывала, не выхаживала, когда он болел, но он мой плоть от плоти моей. Я сердцем всегда была с ним, а что, а что находилась далеко – это не моя вина. Его материнское сердце и благодарило пани Каталину, что она заменила ему его мать, и в тоже время завидовала, что она видела, как он растет, как мужает».
Он, не стесняясь своих слез, шептал:
- Мама, ты всегда была со мной, я всегда помнил тебя, всегда любил тебя, как только сын может любить свою мать. Ты одна помогала мне в трудные минуты, только с тобой одной, я делился своими неудачами, горестями, извини, что радости доставались не тебе. Вот чего я достиг только благодаря тебе, мама, благодаря тому доброму началу, что ты заложила в меня в детстве.
Шура плакала слезами материнского счастья, небывалой радости, гордясь своим сыном, его статью, его мужественной красотой, его добрым сердцем, в чем она ничуть не сомневалась.
Все присутствующие при встрече матери с сыном, видя, что они здесь лишние, оставили их одних, говоря:
- Пусть нарадуются весь день до вечера, всю ночь, а разговор не иссякал.
Оказалось, что Янык сохранил в памяти, всю их совместную жизнь в каменном мешке, помнил, огороженный для них участок сада, где они часто отдыхали вдвоем. Теперь же достал привезенные фотографии, альбомы, где была частично запечатлена его жизнь уже без нее. Показывая фотографии, он указал пальцем на пани Каталину:
- Это моя мама, вернее, которую я считал своей матерью.
- Я знаю, сынок, я поняла теперь, кто стал твоей второй матерью, еще тогда, когда я была там.
- Да, да, мамочка, но, именно, она мне рассказала о тебе, сама она умерла, попав в дорожную катастрофу.
Шура помолчала, щадя его чувства, все-таки эта женщина взяла на себя смелость усыновить его, дать ему свою фамилию, положение, одаривала его, как умела, любовью, окружала заботой, являясь его второй мамой.
-А это кто?- указала Шура на фотографию девушки, которую когда-то показывала пани Ядвига, пытаясь узнать ее судьбу. Только здесь она была в подвенечном платье, которое сшила для нее с таким старанием сама Шура, для дня ее свадьбы. Ведь в знак благодарности пани Ядвига подарила Шуре запечатленную на фото ту девушку, но уже в подвенечном платье.
- А это, мама, - вздохнул Янык моя не состоявшаяся любовь, дочь Изольды и моего двоюродного брата Стефана. Это ее свадебная фотография. Она венчалась со своим избранником в подвенечном плате своей матери. Шура его последних слов не слышала, ее словно, громом поразили слова об Изольде и Стефане.
- Как ты сказал, сынок, двоюродного брата Стефана? Разве у тебя есть брат Стефан? – только и могла она вымолвить, дрожа от потрясения.
- Да, мама, а вот и он, - и Янык показал фотографию, где ее Стефан был изображен на плывущей гондоле по водному каналу Венеции со своей юной женой Изольдой, то есть той девушкой в подвенечном платье, фотографию которой ей подарила пани Ядвига в знак благодарности за сшитое платье для свадебной церемонии.
Шуру бросило в жар, ей показалось, что ей плюнули в лицо. Она пыталась заглушить нахлынувшие чувства, но перед глазами, как на кинопленке, бежали кадры из прожитой жизни. Она так ясно, как никогда, увидела то время, когда страшно страдала из-за потери ног, потом свою страстную любовь, рождение сына, смерть, предмета своей неземной любви, Стефана. Страшно было вспомнить, как она тогда тосковала, как убивалась, оплакивая его преждевременную кончину. Не наложила на себя руки только из-за их обоих сыночка. А он? Он, будучи, жив, не соизволил посетить ее с сыном? Как он мог! Ведь она не рассчитывала на его вечную любовь, но чисто по-человечески, он мог хотя бы навестить ее с ребенком, с его ребенком.
Видимо ее лицо от душевной боли перекосилось, страшно изменилось, потому что Янык обеспокоено спросил:
- Мама, тебе плохо? Ты устала?
- Нет, сыночек, со мной все хорошо, но я хочу тебе открыть тайну. Мама Каталина тебе рассказала перед смертью, кто твоя мать, а я хочу рассказать, кто твой отец.
Янык уставился на нее;
- Мама, не надо, я знаю, ты мне сказала, что мой отец погиб еще до моего рождения.
- Нет, сыночек. Теперь я знаю, что это не так, а твой отец жив и здоров. Твой отец Стефан, которого ты считаешь своим двоюродным братом. Вот кто твой отец, а девушка, которую ты страстно полюбил, твоя родная сестра по линии отца. Забудь ее, сынок. Грешно любить родную сестру. Ты можешь любить ее только, как брат любит сестру. Забудь о ней, как о девушке, забудь навсегда, люби, как сестру и устраивай свою жизнь. Ведь на свете так много достойных женщин, и ты найдешь свою.
Она все говорила, нежно гладя его по волосам, как маленького, несмотря на то, что волосы уже были тронуты сединой.
У Яна в голове все смешалось, он был удивлен, возмущен, но не верить матери не мог, ведь кто лучше знает, кто отец ее сына, как не она.
Погрузившись в себя, он молча переваривал услышанное, а потом глядя матери в глаза, произнес:
- Спасибо, мама, спасибо родная, что открыла глаза. Я постараюсь любить Олесю, - и судорога пробежала по его лицу, но взял себя в руки, - постараюсь любить, как сестру, обязательно постараюсь.
- вот и прекрасно, сынок, так-то лучше. Ты еще молод, хорош собой, полюбишь, женишься, а гляди и внуками порадуешь свою старушку мать.
Он ласково держал ее, в синих венах, руки в своих теплых ладонях и говорил:
- мам, хочу тебя предупредить, что я добиваюсь, хлопочу, уже начал хлопотать, как только приехал сюда, чтоб тебя увезти с собой в Польшу.
Она поморщилась, хотела что-то возразить, но он продолжал:
- Со мной, мама, тебе будет хорошо, спокойно. Хотя бы не придется столько работать, - и он поцеловал ее огрубевшую от работы руку.
Шура посмотрела на него сквозь слезы в глазах с такой неземной любовью, потом на свои жилистые руки:
- Нет, сынок, только не это. Во-первых, это почти невозможно, во-вторых, я пропаду без работы. Меня работа только и держит на этом свете.
- Вот, уж нет, мама, я тебя обязательно увезу. Ты не знаешь, сколько передумал я, посещая твою мнимую могилку, столько кланялся ей, что у меня теперь одно желание показать всем, что ты жива.
- Как кланялся моей могилке, где же та моя могилка, сынок? Как можно, чтоб была могилка при живом человеке? Ты что-то не то говоришь, Янык.
- Мама, я в здравом уме, а могила есть, там, в Польше, в саду, у тети Ядвиги. А привел меня к ней мой двоюродный брат, а теперь отец. Он там часто сиживал, ложил полевые цветы, говорил, что та, что здесь лежит, очень их любила. А когда, я спросил, кто же там лежит, то он ответил, что пани Александра, и заплакал. Он, бывало, ночи напролет просиживал у изголовья той могилки, чтоб никто не увидел, но я все равно видел.
- Невероятно, значит, значит, они мне сказали, что он умер, упав с лошади, а ему, что я умерла, и, конечно, во время родов, потрясенная вестью о своей могиле.
Она задумалась, а потом стала просить прощения у Стефана: «Прости, любовь моя, а я то подумала,- сыну же сказала:
- Знаешь, сынок, что пани Ядвига с паном Эдуардом твои родные бабушка и дедушка, а не тетя с дядей.
Янык уже перестал удивляться, а непонятное беспокойство за мать, все больше овладевало им, он видел в ее глазах недобрый огонь, обреченность человека, способного на все.
Она же продолжала:
- Вот как было задумано, так вот оно что? Чтобы бездетную Каталину сделать матерью, нас похоронили друг для друга, мы были умершими, - и снова возмутилась, вспомнив, как она тяжело переживала смерть Стефана, как убивалась дни и ночи напролет. Он же в это время жил, любил, женился, рожал детей, путешествовал. Правда он не знал, что она жива, но все равно… сын его, единственный сын, рос рядом, а он не мог обнять, как свое родное дитя, - она помолчала. Как он мог не видеть схожести с ним, как не мог не заметить, если любил меня, моих бровей, ведь ни у Каталины, ни у пана Зюзи нет таких бровей, - и она застонала от отчаяния.
Ведь она не могла знать, что именно эта схожесть так сильно смущала и Стефана, заставляла над ней задуматься: «Где я мог видеть такое личико, где и у кого видел такие брови?» откуда ей было знать, сколько бессонных ночей провел он на могилке, оплакивая свою судьбу. Не знала она также, что он не любил свою жену, и так и не смог полюбить. Но самое главное, что она не знала, что лучшего времени, чем-то, что он провел в бункере с нею, для него не существовало.
Это все судьба, злая, коварная судьба, сначала лишила ее ног, затем забрала любимого, наконец, разлучила с единственным сыном.
Она думала: «Нет, с Яныком я не поеду, его я уже увидела, что было моей заветной мечтой, а обузой ему стать не хочу, и не могу, это не в моем характере, тем более не потерплю к себе жалости».
Яну хорошо было с матерью, не хотелось расставаться ни на минутку, но ему было нужно в милицейский участок, отметиться. Такие тогда были порядки, поэтому он, поглядывая на часы, заторопился.
Шура провела его до двери, держась за его теплую руку одной рукой, а другой, управляя колясочкой, закрыла за ним дверь, все прислушиваясь к удаляющимся шагам его.
Вернувшись в комнату, она принялась за свою обычную работу, там пыль, протирая, там вещи разбросанные подбирая, она так всегда не могла подолгу сидеть на одном месте. Альбомы с фотографиями лежали стопкой на ее низком диване, проезжая мимо них, она увидела коричневый пакет, взяла его в руки и хотела уже вложить в один из альбомов, как вдруг из него посыпались фотографии, да такие красочные, цветные. Она, свесившись со своей колясочки, начала их собирать, и вдруг, о Боже! – отшатнулась.
С фотографии на нее смотрел седовласый Стефан, сидя в вязаном, кресле под экзотическими деревьями, весело смеясь, белозубой улыбкой. Тронутая загаром золотистая кожа солнца, выгодно гармонировала с белой сединой волос. Его индийское, белого цвета, одеяние придавало ему особое очарование, и, не смотря на возраст, Шура вынуждена была признать, что он стал еще интереснее.
На другой фотографии был изображен молодой индеец, чем-то напоминавший Стефана – мой сын Радж. Шура поняла, что плачет, в мозге стучало:
«Так вот оно что, у него новая семья в Индии, и здесь он, кажется, нашел свое счастье. А вот и его новая жена. С фотографии смотрела угольно-чеными глазами пышнотелая индианка, напоминавшая Шуру в молодости, особенно глазами. На обратной стороне тоже была надпись – моя жена Рита.
Шура понуро сидела с фотографиями в руках уставшая, поникшая, и перед глазами мелькали кадры ее нелегкой жизни. Затем, встрепенувшись, она прощальным взглядом оглядела свое жилище, открыла тумбочку с письменными принадлежностями, взяла чистый лист бумаги, ручку и задумалась, просидев так несколько минут, о чем она думала так никто и не узнает, что в эти минуты творилось в ее душе. Успокоившись лихорадочно начала писать, даже не обращая внимания на лившиеся слезы, мысленно снова и снова всматриваясь в свою жизнь, видя себя несчастной, безногой, но очень красивой, даже запах того далекого времени заполнил ее жизненное пространство: сильный мужской дух Стефана, кисленький детский запах своего сынишки, дорогие духи пани Ядвиги, запах душистых сигар пана Страшевского, затем вонючий запах тюремных бараков. С улицы послышался лай собаки, заверещали дерущиеся коты, и Шура, словно, проснулась, окунувшись в действительность.
Закончив писать записку, она прижала ее снова на столе дыроколом, а сама лихорадочно стала готовиться, открыла еще одну тумбочку, взяла бельевую веревку, тщательно осмотрела, нет ли где на ней потертостей, надрывов, смерила высоту от верха спиной своей спальной кровати до пола, перевалила свое тело на кровать, затем спокойно, с неприсущим ей хладнокровием, обмотала веревку вокруг своей жилистой шеи, что когда-то была, как у лебедушки, и сбросила свое безногое тело вниз.
Когда к обеду вернулся сын, то во дворе было полно милиции, соседки, стоявшие обособленной группой плакали, стояла карета скорой помощи.
Перед Яныком расступились, пропуская к подъезду, где жила его мать.
Он ничего не понимал, бегом побежал к двери материнской квартиры. Сердце, чуя беду, вырывалось из груди, чувство страшной тревоги охватило все его существо. Когда он ворвался в комнату, то все стало ясно. Он увидел посиневшее, одутловатое, такое далекое в своей отчужденности, лицо матери, а на ум пришли ее слова: « Сынок, твоя мама Каталина перед смертью рассказала тебе обо мне, а я тебе расскажу, кто является твоим родным отцом. Как я мог не придать значения этим словам?»
Он рухнул перед тем, что от нее осталось, на пол, ни в силах выразить своих страданий и мук, но дежуривший возле ее тела милиционер, не считаясь с его чувствами, строго приказал:
-Гражданин, прошу следовать за мной, вы арестованы!
-Арестован? За что? – пронеслось в мозгу Яна, но он подчинился приказу.
В милицейском участке, куда привели Яна Юзьевича, перед высоким чином в погонах, на столе, лежала предсмертная записка Шуры, где она сообщала, что решила добровольно уйти из жизни, и просили никого не винить в ее смерти. Как ни странно, Яна признали невиновным в смерти матери, и отпустили для участия в ее похоронах. Видимо, его внешний вид, даже у самых черствых людей вызвал уважение к его чувствам, поэтому ему даже не устраивали допросов.
Когда убитый горем Ян вернулся, то тело матери уже лежало в гробу в ворохах цветов. Ему показалось, что ее лицо просветлело при его приближении, во всяком случае, так утверждают ее соседки.
Старушки, сидевшие у гроба, увидев Яна, забеспокоились, перешептываясь, но в это время гроб с покойницей подняли и понесли к выходу.
Ян проводил мать на кладбище, подождал, пока закроют могилу.
Оставшись наедине с холмиком земли, под которым покоилось тело его матери, он обратился к ней сквозь слезы: «Мама, зачем ты это сделала, ведь нам так было хорошо вдвоем?»
В ответ – гробовое молчание, только на ближайшем кресте прокаркала ворона, словно в насмешку, над его вопросом.
Так закончился жизненный путь этой многострадальной души, видимо так распорядилась предначертанная ей судьба.
Каждый год в день ее смерти, в изголовье могилки, можно было увидеть одинокого, седого мужчину с букетом полевых цветов.
|