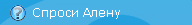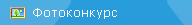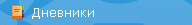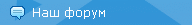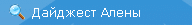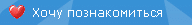Жижка проснулся
Закапало с веток густо, неожиданно приятно, и Жижка пару раз крутанулся в коконе. Пора.
Он ещё немного выждал, привыкая к своим ощущениям и, когда очередная капля шлёпнула по кокону, стал толкаться в тесные стенки своего жилища, ёрзая и постанывая от нетерпения. Расправляя крылья, пропихиваясь ими в трещинки лопающейся оболочки, он беспрестанно напевал свою любимую песню о весне. Уж лучше вот так, в коконе – спящим – переждать стужу, чем бродить в одиночестве по безрадостному стылому лесу, проваливаясь в сугробы и спотыкаясь о занесённые снегом коряги. Скучно зимой. А Жижка любил тепло: осенью грустной оно было зыбким; весной приходило толчками, томило и звало к лету; а летом – пусть сырость, ветер и дождь, гроза и бурелом – всё мило ему. Он любил лес зелёным, чтобы трава была высокая с ромашками и синими колокольцами, солнце чтоб купалось в цветочной купели утренней росы; птиц любил он заливистых, порхающих в высоком полуденном небе и славящих солнце.
Кокон был тесным и жёстким, Жижка чуть напрягся ещё – и вылетел голубой бабочкой. Попорхав над покрытыми кое-где коркой льда прелыми прошлогодними листьями, она села на полынную метёлку и замерла. Холодно, её время придёт позже, рано проснулся Жижка, поторопил бабочку вылететь. «А, пусть себе сидит, качается на весеннем ветру!» – вздохнул он и, заметив возле куста белку, переместился в неё.
Та недовольно пискнула, стала от неожиданности пятиться, пятиться, заметалась по снегу и прыгнула на поваленное дерево. Здесь белка встряхнулась, выхватила из-под отставшей коры сухой сморщенный гриб, припрятанный ею же с осени, и вдруг замерла, уставившись куда-то вдаль и вслушиваясь в себя. Новые ощущения не понравились ей. Чувствуя в себе чьё-то присутствие, она снова встряхнулась, посновала ещё и ещё и понеслась стрелой по поваленному дереву к дуплу. Инстинктивно оглянувшись, прежде чем нырнуть в его черноту, она недовольно запряла ушами и оскалилась, угрожая кому-то. Никого. Посидев у дупла ещё немного, только тогда нырнула внутрь – к детям. Лаская их, она нет-нет, да и замирала, снова и снова ощущая перекаты чужого в своём теле. Кто-то горошинами подбирался к самым кончикам ушей, щекотал в ноздрях, закручивал хвост спиралью. Но дела домашние напомнили о себе вознёй бельчат, их жалобным писком, – и она улеглась, чтобы накормить их своим живительным молоком.
Недолго поиграв с бельчатами-подростками, Жижка заставил белку подобраться к краю дупла – и очутился в пролетавшем мимо воробье. Тот от неожиданности стал бестолково и вразнобой махать крыльями, громко зачирикал, призывая своих на помощь. «Тише, тише, – успокоил его Жижка, – так ты, глупыха, и сердце себе расколешь от испуга». Воробей, услышав чей-то успокаивающий шёпот, продолжал летать туда-сюда, но уже медленнее. Теперь Жижке можно было и осмотреться.
Взглянув на землю с высоты птичьего полёта, он ужаснулся: ох, нет его леса! Пропала вдруг родимая сторонка! У воробья в горле запершило, глаза застлала пелена, он чирикнул и стал снижаться. «Ну-ну, – спохватился Жижка, – это я так… Ты давай летай, птаха! Летай», – приказал он, вздохнув. И птица послушалась его, набрала высоту; Жижка притих, оглядывая землю. Что же он увидел такого, что так испугало его? А ничего не увидел. Не стало леса с дубами, берёзами и любимыми ольхами. Не стало ручьёв и болота. Колокольцы любимые синенькие уж никогда не закачаются на ветру. «Ох!.. – тихо застонал он. – Как же теперь мне, где всё?..»
Целый лес пропал, как и не было! А всё потому, что за зиму шоссейную дорогу спрямили, она дважды пересеклась с дугой железнодорожной ветки, образуя петлю. Островок леса, зажатый двумя дорогами на высоких насыпях, стал мешать, тогда деревья спилили, брёвна увезли, ветки постаскивали в кучу, сожгли, потом разровняли бульдозерами, засыпали гравием. И всё. Всё!.. Осталось лишь поваленное дерево с дуплом белки, торчащее из насыпи верхушкой, да кое-где, словно проверяя на толщину подушку гравия, высунулись ветки краснотала. Живое разбежалось, разлетелось, расползлось, погибая, раздавленное и затоптанное.
Когда стали валить лес, белка, испугавшись треска и шума, пересидела в дупле, и, как положено, в самую стужу у неё народились бельчата. Уйдёт и она теперь – бельчата растут быстро, бескормица заставит её искать сытое место.
«Так-так, так-так-так», – подытожил Жижка увиденное и заставил воробья перелететь насыпь. За нею было другое.
Хуторок из трёх домов прилепился к самому дубняку. Ранняя весна поторопила выгнать коров за огороды на луг. Три коровы и тёлка с бычком щипали прошлогоднюю траву, выдёргивая её пуками, сопели и мычали, закрывая глаза и подставляя морды робкому ласкающему солнцу.
«А ну, давай туда! – приказал Жижка воробью, и тот сел на крышу дома. – Лети себе, пой и дальше, щебетуха», – подумал он и отпустил воробья, переместившись в зелёную навозную муху. Воробей, освободившись от внутреннего плена, размахался крыльями, взлетая выше и выше в синь неба.
Жижка впервые оказался так близко у жилья людей. Он знал о них мало, но больше плохого, чем хорошего.
Однажды осенью два человека шли лесом след в след. На охоту они собрались или ещё чего надумали. Первый, скуластый, в широком длиннополом плаще, шёл легко, размахивая руками, глаза щурил, смеялся, насвистывая весёлый мотив. Понравился он Жижке. Другой, моложе, широколицый, усы вислые, шёл, пружиня шаг, и вскидывал руку с ножом, занося над самой головой впереди идущего. Жижка устал отводить его руку, даже разозлился, подслушав недобрые мысли. «Ну, хватит! – прервал он поток злобы усатого. – Ишь, размахался!» – Подтолкнул его Жижка, и, подставив толстую ветку к сапогу, опрокинул прямо в дождевую жижу чернозёма. Вислоусый раскровенил лицо об острую ветку и стал обтирать рукавом грязь. Нож выпал из его дрожащей руки и куда-то запропал. – «Добегался!» – удовлетворенно подумал Жижка и заскользил вместе со стрекозой дальше от этого места.
В другой раз парень с девушкой гуляли в лесу. Он всё хотел догнать её, а она убегала, призывно смеясь и чуть-чуть подразнивая его. «Ну, до чего ж зелены! А он-то, он-то: волосы рыжие, солнечными кольцами! Жижка залюбовался этими двумя, их игрой, подобрался ближе, затаился и вдруг услышал мысли паренька. – Что же это? – удивился он. – Как можно? Ведь она словно эльф, хоть и без крыльев. Такие, как она – чистые и светлые – должны жить долго, радуя всех. А он задумал такое с ней!..» Девушка, в голубом платье похожая на мотылька, беспечная, уводила парня дальше и дальше. Не стерпел тогда Жижка, заманил того в другую сторону, закружил в болоте и оставил искать тропу до утра. И, гладя её тонкую руку, стёр из памяти бьющейся в плаче девушки память о первой любви. Потом вывел к дороге и с болью долго смотрел вослед. Ничего она уже не помнила, и ладно. Не было в её жизни этого леса, и соловейкой молодой голос не звучал здесь.
Так вот, о людях он знал достаточно, чтобы обходить их стороной. Всё-то они кроят-перекраивают, строят-ломают, переиначивают природное, родное в неживое превращают! Вот взять хоть эту щебёнку острую. Была скала в конце леска, осыпь каменьев скатывалась к её подножью из-под копыт оленьих, орёлик садился на её верхушку, высматривая добычу. Так нет, и это людям нехорошо! Давай её разбивать, раздрызгивать на части, мельчить камень в дробильнице, превращать в серую холодную щебёнку, засыпать ею живое место! Разве камень был нехорош, разве мало он простоял, неся службу? То-то же. Непонятны Жижке их суетные действия и замыслы, они шли вразнобой с течением природы вокруг.
Быть мухой – скучно. Она без конца билась о стекло окна веранды, жужжала так громко, что сбивала мысль. Во дворе гуляли куры, квохтали и кружили вокруг петуха. Жижка послушал, о чём они думают. «Охо-хо… – вздохнул он. – Глупые какие, ну, до чего ж глупы! Кругом весна, а они из-за нескольких зёрен ссорятся…» Тут из конуры показалась собака, и Жижка, не раздумывая, оказался в ней. Собака сделалась вдруг недовольной, затеребила брюхо, стала мордой тыкаться под мышки, закружилась волчком на месте, норовя ухватить себя за хвост. «И эта глупа, – вздохнул Жижка. – Инстинктами живёшь, от человека кормишься, а туда же – мною недовольная! Кто – ты, и кто – я?! Сидеть! – приказал он ей. Собака села на хвост, прижала к голове уши: что такое?! – Вот так, слушай и запоминай! – И Жижка стал внушать истины, которые ей теперь положено знать, раз он в ней. Щекотание в носу стало нестерпимым, и собака чихнула. – Эй, ты! – прикрикнул на неё ещё раз Жижка. – Инстинкт собачий! – Он покрутил собачьим носом и добавил: – И ничего более. Сиди и жди команды! Без команды не смей бегать-прыгать, не смей беспокоить меня, собака! Знай и помни: теперь я тебе приказы даю, значит, и хозяин твой – я! – Собака вилюче сползла в траву у забора, перевернулась кверху брюхом и затихла. – Ну вот, лежи так и вслушивайся в мои слова. Чуток побуду в тебе, хоть и не люблю я вашего брата горячего. Птицей люблю быть, на зорьке кувыркаться в воздухе люблю…» – Жижка вознёсся мечтою в небо.
На крыльцо вышел паренёк. Он потянулся, потом изловчился и сбил рукой толстую сосульку, нависшую над крыльцом:
– Ого-го! Весна! Ведь весна же!
Прямо с крыльца парнишка прыгнул на мостки двора и, хлопнув ладонью по перевёрнутой железной бочке, побежал в сад, разбрызгивая сапогами снеговую слякоть.
Крик его, радостный, весенний, эхом перекатывался в лес, на луг, к речке. Жижка встрепенулся от этого будоражащего крика: весна – любимое время течения жизни – нравилась ему более всего.
– Эй, Пулька! – позвал парнишка, хлопнув по колену рукой. – Ко мне! – и выбежал за калитку. Собака рванулась за хозяином, радостно лая. За оградой она догнала его и побежала рядом, иногда забегая чуть вперёд и заглядывая ему в глаза.
Лесок был совсем близко, и Жижка глазами Пульки увидел приятную узорчатую вязь веток на фоне голубого неба. «Хм, и тебе, собака, нравится весна, – удовлетворенно хмыкнул Жижка. – А я-то всю свою жизнь провёл в лесу. Лесовик я, лес – мой дом», – внушал ей.
Пулька остановилась, соображая, какая была сейчас ей команда. Она с тоской смотрела на убегающего хозяина. А тот бежал к речке через луг, перескакивая с кочки на кочку, натыкаясь на низкий шиповник, на мётлы рыжего щавеля. Его сапоги утопали в талостях последнего снега, призывно хлюпали, удаляясь от Пульки дальше и дальше…
Собака заскулила от безысходности и нестерпимого желания бежать за хозяином, легла у калитки и тоскливо посмотрела в сторону весёлых хлюпающих звуков. Другой хозяин властно приказывал ей сидеть. И Пулька послушалась его и сидела, радуясь, что так быстро распознала команду. Чужую команду. Она поняла: этот хозяин первый, ну, а тот, прежний – только второй.
На речку через луг Жижка не захотел, удаляться от леса было боязно. Пулька повернула голову к лесу и посмотрела на его весеннюю черноту. «Родное, любимое, – раздалось в её голове, – там всё моё…» – продолжалось в ней. Жижка вздохнул и усадил командой Пульку под куст. «Да-а, – продолжал вспоминать он, – птицы в лесу звончее луговых, жужелицы много толще, само собой! И всякая там живность – приветлива». Даже старый бурундук, вечно недовольный, ни разу не обиделся на его проказы. От весны к весне, от лета к лету, осенью замирая и возрождаясь с первой капелью, жил и жил себе Жижка, и вдруг такое…
Резко вскочив – шерсть дыбом, Пулька заскулила и побрела к дубу у калитки, нехотя перебирая лапами. Что ж, ладно, переживёт это Пулька. Но пусть и он, первый, помнит, что тело Пулькино – собачье, а собака – животное разумное, и беспокоится не только о насущном, но и о будущем мечтает. А будущее – бр-р-р-рр! – какое теперь оно у неё?..
К дому паренёк вернулся притихший, успокоенный.
– Вот и весна! А ты говорила… – Он потрепал Пульку по бурой шерсти и заглянул во влажные глаза: – Говорила, не будет её. Шалишь, шалишь… Пришла! – он открыл калитку и размеренно пошёл по дорожке к дому.
Пулька снова с тоской посмотрела ему вослед. Команды бежать за хозяином не было. Уснул тот, первый, что ли? «Иди уж», – последовало разрешение.
На лавочке под окном сидела девушка, ждала. Она встрепенулась, взглянула на паренька и сказала беспечным голосом:
– Паша, а я шла в магазин да и зашла к вам. Мама спрашивает: огороды вы будете пахать после Сиднёвых или подождете, когда Лычковы отпашутся? Чтоб нам очередь занять.
– Думаю, после Лычковых. Илья Кошкарёв лучше пашет, меньше глины выворачивает, трактор у него полегче.
– Мы тоже решили в этот раз Илью просить. – Девушка вдруг отвернулась и сказала: – Ты сядь, что ли, а то стоишь у своего дома, неудобно.
Паша сел на краешек скамьи.
– Магазин – вон где, а наш дом – вот, – уличил он её.
– Ой, здравствуй! Паша, я забыла поздороваться! Ты на луг ходил? – спросила она; он молчал. – Весна, – сказала она тихо.
– Я на речке был. Лёд вот-вот взломается.
– Ага, – кивнула она и взглянула на его руку, теребящую пуговицу куртки у самого ворота, – весна ранняя в этом году. А я тебя вчера на почте видела. Тёти Оли нет дома? – тихо спросила.
– Пошла к Серёгиным смотреть пискуна. Слышишь – песни поют? Празднуют крестины, – улыбнулся он широко.
– Хорошо у вас во дворе! – проговорила девушка. – Тихо, не дует. Забор высокий, что ли?
– Забор тут ни при чём. – Он наклонился и поднял камешек. – Дом у нас так ставлен, у самого леса, здесь ветра большого не бывает, ещё дед Роман мне рассказывал. – Вдруг он увидел розовую мочку её уха. – Ты, Вера, чего ж шапку скинула? Надень. Тепло обманчиво, – проговорил Пашка интонациями своей матери, и, прицелившись, сбил камешком сосульку, свисающую с крыши сарая.
– Ладно, – согласилась Вера. Она надела шапку, заправила волосы и смело посмотрела на него: – А ты вырос… Как же ты вырос!.. Зимой маленький был, а сейчас смотрю: вырос.
Пашка закрыл глаза, подставил лицо солнцу:
– Семнадцатый пошёл мне с февраля.
Но и с закрытыми глазами Пашка будто видел её розовую мочку уха. Вера заслонилась от солнца, и её ладонь тоже стала розовая-розовая – и это, ему казалось, он видел сквозь прикрытые веки. Он придвинулся к ней, осмелевший, готовый на самое-самое, взял её руку в свою и, чувствуя токи её крови, вдруг произнёс:
– Я, Вера, уеду летом.
– Куда? – спросила она, как выдохнула.
– Школу доведу, а там – уеду. Дядя Коля зовёт к себе, в мореходку поеду поступать.
– Учиться на капитана, да? – спросила она еле слышно.
– Дядя Коля у них там завхозом работает, говорит, с моими отметками без проблем поступлю.
Пулька стояла рядом, беспокойно крутила головой: смотрела то на Веру, то на Пашку, – и вдруг разлеглась у их ног. «Так-так», – пронеслось у неё в голове. – «Так-так-так, – подумал Жижка, – и тут весна. Ишь, забурлила у них кровь, прям клокочет ручьём, вон как оно бывает…»
– Людмила Борисовна сказала, что у тебя талант к учёбе, – тихо сказала Вера. – Может, ты пока в десятый пойдёшь к нам в Бобры или хоть в Митряхино, а там видно будет.
– Десятый, одиннадцатый, – посчитал Пашка, – нет, это долго. Уеду, – твёрдо сказал он.
– Ты к нам в Бобры на танцы сегодня придёшь? Танцы обещали… Толька Труфанов мне проходу не даёт, прям надоел, – она вздохнула. – Замуж зовёт.
Он сжал её руку, ей стало больно и обидно, что вот Труфанов зовёт её замуж, а Пашка молчит.
– Мне-то в мае восемнадцать уже стукнет, а ты – учиться едешь. Уедешь, а мне что ж – за Труфанова идти прикажешь? – вдруг сказала она плаксиво и резко поднялась.
– Ну и ладно! – произнёс он сквозь зубы. – Если так… мне что ж!? – сказал горестно и бросил её руку. – Я-то, выходит, ни при чём?
– Ты вырос, – сказала она, смеясь. – Уф, жарко! – Она сняла пальто и запястьем руки погладила его по щеке.
– Надень пальто! – строго произнёс он. – Надень, а? – попросил ласково и вжался лицом в ямку её руки, согнутой в локте.
Вере вдруг стало страшно от мысли, что он подумает о ней что-то плохое, раз она почти разделась – рука-то вот она, голая! И она зашептала:
– Ты не подумай чего, это я только с тобой так. Труфанов мне – пустое место, я его и не замечаю вовсе!
Хмыкнув, Пашка сам надел на неё пальто, застегнул на все пуговицы и поднялся:
– Весна обманчива, так можно и простыть.
– Да, – закивала она радостно, и её волосы выбились из-под шапки, и он их старательно заправил. – А что он мне кольцо подарил золотое, так это глупости. Зачем я взяла? Глупо, да?
– Это не глупо, но это твоё дело. Хочешь – бери, а хочешь – не бери. Понимаешь, это только твоё дело, – сказал он с нажимом и задышал часто-часто прямо ей в лицо.
Они так стояли долго-долго, и Жижке было совсем не скучно, потому что он слышал стук их сердец. «Стучат, – удовлетворённо сказал он себе, – ага, стучат, я так и знал». Что он знал? Да и чего он не знал?! Лесовик всё-таки, а не какой-нибудь там червяк на тропе лесной, не комар какой-нибудь вам Жижка, и у него сердце есть, понимает он такое… «Значит, про меж них искра пробежала», – удовлетворенно подытожил он.
– Так придёшь сегодня на танцы? – спросила она снова. – Я тебя подожду возле кассы, возьми мне билет, ладно? А то Толян купит на свои, а мне теперь нельзя, чтобы он брал, да Паша? Всё теперь, я теперь – с тобой, – проговорила Вера решительно. – Я так и скажу ему, что с тобой буду танцевать, чтоб не приставал, ладно?
– Теперь приду. Это ж надо: подарки дарит! Да кто он такой, чтобы тебе дарить!..
Вера вприпрыжку побежала по досочкам к калитке.
– Приходи! – раздался её голос уже издалека.
«Придёт, – подумал Жижка, покидая дрожащее тельце собаки и растекаясь янтарной смолой по берёзовой поленице. – И здесь жить можно!»
Дом, двор, огород, сад – всё дышало, было обжито. Пахло молоком и ещё чем-то домашним. Умастившись под перевёрнутым корытом, Жижка впал в забытьё, в покой.
Проснулся он, отдохнув, уже летом, когда Пашку провожали на учебу. Пулька слонялась по двору, гоняя кур и щёлкая мух. «Ну, ничего, ничего, – подумалось Жижке, – спокойно здесь». С утра густо моросило, потом солнце проклюнулось и стало припекать по-летнему жарко. Жижке захотелось осмотреться.
Он сполз каплей смолы с поленицы, принял своё обличье и, оставляя слезливый пахучий смоляной след, перешёл двор – к дому. В доме – никого. Жижка постоял на пороге веранды, крутя головой, и заглянул в комнаты. Никого. Но чутьём он понял: занято. Дом кем-то из своих обжит. Вот в подполе кто-то зашевелился, поурчал, и всё стихло. Жижка уверился: там свои, и попятился. Занято, так занято. Во дворе – тоже ничего себе.
Потом началась суета: кто-то приходил, уходил, хлопали двери, скрипели половицы, молодёжь выскакивала во двор, под какофонию звуков магнитофона стучала каблуками по не струганным досочкам настила.
Пулька ощерилась, когда поняла, что тот, первый, опять в ней. Она зарычала, но негромко, а так, по привычке, и затихла на завалинке, словно подвинулась, уступая место. «Так-то вот, – удовлетворённо подумал Жижка. – Поняла наконец-то».
К ночи гости разошлись; Ольга Петровна, убрав со стола, стала готовить сына в дорогу. «Хорошо, что пироги с повидлом получились, – улыбалась она. – В прошлый раз подгорели, а сегодня – хороши. Станет Пашенька угощать родню – не стыдно ему будет. – Можно было ещё и с грибами напечь, но про грибы она забыла. – Ага, – поджала недовольно губы, – про грибы даже и не вспомнила».
Паша и Вера сидели на лавке под окном. Запахло пирогами.
– Тетя Оля расстаралась, – кивнула она на светящееся окно, – напекла тебе, нажарила…
– Уеду я надолго… – он смотрел на неё, но видел только волосы – нимбом – в жёлтом свете окна.
– Труфанов меня торопит, – говорила Вера невпопад, понимая, что не это главное. Тогда зачем же об этом? – Толькина мать надоедает: почему не ношу ихнее колечко? А я и не вспоминаю про него. Я, Паша, – она заплакала, прямо затряслась в плаче, – хочу твоё колечко носить.
– Не-е, – протянул он, не решаясь обнять её за трясущиеся плечи, – мне долго учиться. На кольцо я не скоро заработаю. Так что ты подумай крепко, пока я там буду.
– Ой, подумаю я! – заголосила Вера так, как в кино голосили женщины, провожая мужей на фронт, и Пашка словно увидел воочию то расстояние, которое будет их разделять. А она кричала, глуша голос ладошкой: – Ой, да что же мне делать-то? Я одна без тебя, и не придумаю, что мне делать! А ты уезжа-а-ешь…
– Вер, ну чего ты? Я ж на каникулы зимой приеду, чего реветь?
– Пашенька, – позвала мать в окно, – пускай Вера ночует у тёти Тани! Я ей сказала, так она ждёт Веру, не ложится спать. Проводишь – сам не задерживайся, а то проспишь поезд. – Мать выключила свет на кухне и перешла в спальню, говоря громко, чтобы там, за окном услышали: – Учиться три года в мореходке – сколь воды утечёт, сколь дум перебудет… Всё перемелется у вас, молодость-то своё возьмёт, её никто не обманет…
– Ну, зачем тётя Оля так, – всхлипнула Вера обречённо, – это она мне говорит, не верит она в меня. А ты, Паша, ты веришь мне?
– Верю, – сказал он тихо и кивнул на окно. – Мама сама не знает, что говорит, это она от переживания. А я, Вера, в тебе никогда не сомневался.
– Тогда почему же я сомневаюсь, а? – спросила она то ли себя, то ли его. – Паша, Паша, ну зачем ты уезжаешь? Ведь у нас впереди было бы целое лето! Уж тогда бы я разобралась в себе до самой капельки…
Лето Жижка провёл на воле. С утра он уходил с коровами на луг, считая, что теперь его обязанностью стало сторожить молоко. Корова Рыжуха без разбору хватала любую траву и жевала, жевала целыми днями. «Нет, так дело не пойдёт, – заключил он, подсовывая корове только сочную траву. – Чего хватать всё, что ни попадя? Смотри лучше, – поучал он корову, – запоминай! Если трава с розовым или синим цветом – хватай её, а эту колючку обходи стороной. У-у, рогатая, – возмущался, – где твои глаза, где нюх твой, животина! Только успевай выдёргивать из-под её носа горькую траву!»
Так в заботах о насущном пролетело лето.
Ольге Петровне стало казаться, что во дворе кто-то мелькает, крадётся вдоль стены – зелёный и лохматый. «Кто же там может быть? – разговаривала она теперь часто сама с собой. – Да никого! Пашенька уехал, когда ещё! Никого и нет». Но от этих её слов тот лохматый не пропадал и шлёпал теперь громко по двору, не опасаясь хозяйки. Тогда и она перестала его бояться, смирилась с такой своей жизнью. Никого, так никого. Так кто же тогда? Но заметила она, что Рыжуха стала больше давать молока, жирнющего да сладкого. Соседки своё молоко продавали на базарчике в Бобрах, а сами – в очередь к Ольге Петровне за её молоком. Она посмеивалась, пожимала плечами, но корову боялась хвалить, чтобы, чего доброго, на неё хвороба от похвальбы не напала. Работа – дом, дом – работа, когда ей было подумать основательно о своей новой жизни без сына? В редкие выходные она обкашивала траву вокруг дома, ворошила её граблями, сгребала в копёшки. Ещё надо было прополоть свёклу-моркошку, да и не один-то раз! А там ягода вишня поспела – вари варенье! Сколько работы и для одинокой! Ещё и себя надо обиходить: постирать-помыть и в доме прибраться. А живность дворовая!..
Жижке теперь уже не казалось, что время катится круглым шаром от зари к закату. Утром он спохватывался раным-рано – выгонял корову на луг. Ольга Петровна лишь удивлялась поумневшей корове: и дорогу на луг знает, и в лес не забредает, поэтому и в стадо её не гоняла. А корове – что? Ей – лишь бы в траву зайти и есть, есть. «Ну и ну, – удивлялся Жижка, – сколько ж она травы съесть может?! Прям ужас, как много!» Вечером Рыжуха покорно брела домой, неся молоко полным выменем. Вот и прошёл день, когда было оглядываться Жижке? В дождь хозяйка корову оставляла в маленьком крытом загончике при сараюшке, приберегая для такого случая зелёное сенцо нового покоса. А Жижке и тогда работа находилась: переполнялись бочки, ставленые под углы крыши, – надо было отводить воду, чтоб не нарыла она, стекая через край, ям у самого дома. Ещё Пулька бестолковая: разляжется под лавкой, а вода под неё так и подтекает, так и подтекает! Прогонит её Жижка с этого места, да – в будку. А сам – к сарайчику, под навес на поленицу – поспать под бульканье воды.
После дождя выглянет радуга, потом ещё одна. «Эх-ма! – удовлетворённо потянется Жижка. – Пойти, что ли лесом побродить? Мокрый мох потоптать, поглядеть за порядком в этом лесу. Что там без меня приключилось?..»
Лес и здесь, у деревеньки-невелички, был радостный и грибной. И здесь совы, разбуженные вороньим гвалтом в неурочное время, слепо тыкались в стволы деревьев, отыскивая своё тихое место – переждать день. Отчего ж не пойти туда лужком и не послушать пения жаворонков?! А то отыскать его самого – малую пичугу жаворонка – и полетать в нём высоко-высоко в небе, полюбоваться красотами этого мира. Налетавшись так-то, успокоиться где-нибудь в кружевной паутине, растянутой между ветками ольхи. Проснуться и ощутить себя причастным ко всему лесному, милому и родному, и просто быть.
Вечерами, прилепившись листком к паутине на водосточной трубе и спокойно качаясь на ветру в холодке, он засыпал, грезя о малиннике, который, он чуял, вот-вот должен поспеть.
К холодам Жижке всё же вздумалось перебраться в дом, но дом был занят домовым. С ним Жижке не захотелось водить знакомство из-за угрюмости того и неприветливости. «Вот живут же такие на бел-свете, – вздохнул он, сунувшись осенью в дом. – Занято так занято. Тьфу на него! – сплюнул в сердцах и пристроился в сарайчике, под боком коровы..
Зимняя деревенская жизнь – вся в дому и во дворе. Ольга Петровна до рассвета заходила к корове с тёплым пойлом, скармливала ей кусок белой булки, подкладывала свежего сенца, говорила ласковые слова и уходила на работу. Жижка просыпался от её слов, хмыкал, словно это ему говорилось, и снова засыпал под беспрестанное жевание коровы.
Потом приходила весна, было лето. И Паша приезжал. Ольга Петровна жарила-парила, пели песни за встречу. Погостив всего неделю дома, сын засобирался уезжать. И снова жарила-парила мать, теперь уже на проводы.
За столом Вера сидела рядом с Пашей, тянула тонко песни, но Жижка видел, что глаза её вот-вот прольют слёзы. Он выманил их во двор, за сарайчик к поленице и прислушался к разговору.
– Паша, ты почему уезжаешь, словно бежишь от нашей встречи? – это Вера говорила.
– Да ты что?! Я ж тебе рассказывал: работа ждёт меня, на буксир подрабатывать я устроился до сентября. Вера, ну, пойми: мать-то одна бьётся, тянется меня выучить. Я ж знаю, ей трудно одной, – отвечал ей Паша.
И Жижке показалось, что вот теперь, когда им и встретиться не скоро придётся, и людские заботы могут развести этих двух всё дальше и дальше друг от друга, – они стали совсем близкими.
– И зимой ты мог приехать, – снова Вера укоряла его. – Ведь мог, мог?
– Не мог, – мягко отвечал Паша. – Дядя Коля попал в больницу, как же бросить его одного, без поддержки? Все каникулы и просидел у его койки. Выкарабкались мы с ним, я тебе писал, вообще-то он у нас здоровячок, а тут скрутило его…
– А про меня ты хоть капельку думал?
– Приходил в общежитие, уроки делал, и сразу – за письмо тебе…
– Я все получала, – прервала она.
– … Опишу тебе свой день – и тогда уж спать.
– Паша, не уезжай, ведь лето впереди!.. – расплакалась Вера. – А Толька пристаёт-пристаёт! Конфеты коробками носит, к матери подобрался: обещает дом новый поставить и её взять к нам после свадьбы. Да только не хочу я за него!.. Ой, что же мне делать, как же мне быть? И ты уезжаешь, опять я останусь одна… К кому мне будет прислониться, кто мне будет советчиком?..
– Паша, – позвала мать, – идите к столу, чай будем пить да расходиться! Надо успеть собрать тебя в дорогу. А Веру проводишь к тете Тане, она будет ждать её, спать не ляжет.
Год жизни рядом с людьми не показался Жижке длинным, наоборот, он пролетел мигом. Теперь ему уже казалось странным не то, что он остался здесь, а как это он обходился без всего этого? Во дворе он – хозяин, и осознавать это было приятно. Куры у него ходили в белоснежном оперении. Петух гордо вышагивал по двору и тряс своим перламутровым ожерельем, выкрикивая весело и звонко «ку-ка-ре-ку», скликая кур на зерно, разбросанное хозяйкой. Тот был горд за своё многочисленное потомство, жёлтыми комочками бегающее под его ногами и доставляющее беспокойство Жижке. Воспитать из этих цыплят достойных кур – это нелегко, поверьте уж лесовику. Лесовику? Но ведь это не лес, а двор, и, значит Жижка стал… дворовым. «Эхе-хе, – вздохнул он, – не было среди лесовиков такого, чтоб становились дворовыми. Что ж, не было, так стало», – заключил он и метнулся вызволять цыплёнка, застрявшего в ветвях смородины. Пролетел и этот год, ещё один год дворового Жижки.
Новая весна накатила всё в те же земные сроки – не позже и не раньше: с конца февраля потянуло влажным ветерком, в марте в оттепель закапало с крыш, а в апреле уже вовсю припекало солнце и звало на луг, в лес. Жижка часто заглядывал в ближний лесок, принюхивался к весенним запахам, зовущим к жизни, к любви, к лету. Знойными июльскими полднями он подгонял корову к леску, к высокой мураве и, успокоенный, отдыхал в тени берёзы у муравейника, наблюдая затейливый бег вверх-вниз этих трудяг. А Ольга Петровна стояла у изгороди и смотрела на свою корову, которая, будто привязанная, крутилась на одном месте, не заходя в лес. Всякие были у неё коровы, но такой послушной не было…
Паша этим летом на каникулы не приехал – устроился матросом на судно, написал матери, что осенью на пару-тройку дней дома всё же побывает; Вере передавал особый привет. С этой вестью и собралась Ольга Петровна в соседние Бобры. Она торжественно вышагивала по тропке, неся в руке заветный конвертик с письмом сына. Жижка тоже решил пробежаться с Пулькой в Бобры, тем более что там он ни разу не был.
Село Бобры было большое – восемьдесят два двора, школа, магазин и больничка с фельдшером и медсестрой. Ещё почта была, где теперь работала Вера. Она давно разглядела в окно Ольгу Петровну, идущую от магазина прямо к почте, и заметалась от стойки к столу: то сядет, а то привстанет, то сядет, уткнётся в бумаги, а то снова встанет.
– Вера, рада тебя видеть в добром здравии! – начала прямо с порога Ольга Петровна. – Как тебе работается, привыкла уже?
– Привыкла, – ответила Вера тихим голосом.
– ДЕНЁК сегодня знойный, безветренный. Я, прям, запарилась в костюме.
– Да, жарко сегодня, – согласилась Вера.
– Пашенька письмо прислал. А тебе написал?
– Пишет, что не приедет до осени, – сказала Вера и свела брови – недовольная.
– Тебе, я слышала, – как бы невзначай спросила Ольга Петровна, – Анатолий Труфанов предложение сделал? Замуж зовёт, и колечко подарил. Дорогое. И что же ты?
– Пока не знаю.
– Не знаешь. А его мать в магазине на днях похвалялась, что против её сына ни одна красавица не устоит. Ты, конечно, девушка видная, симпатичная. Но ведь и ожиданию когда-нибудь конец приходит. Пашеньке-то ещё годик учиться.
– Ольга Петровна, а вам дарили колечки? – вдруг спросила Вера.
– Колечки? – удивилась Ольга Петровна. – Да кто ж мне их дарил бы? Хотя постой… Один раз мой Иван привёз мне из города копеечное кольцо, с бирюзой. Так потеряла я его, и не переживала – где ж его носить?..
– Вот и я хочу такое, – промолвила Вера со слезами на глазах, – чтобы носить и не замечать.
Паша так и не приехал, все каникулы провёл в море. Ольга Петровна по первым заморозкам собралась в город проведать брата, разузнать больше о сыне, хотя письма от него приходили часто. Наказала соседке присматривать за домом, убеждая, что живность приучена к порядку, со двора никуда не уйдёт. А Пулька прокормится и сама – вишь, как заматерела на воле! Что ж, согласилась соседка, задать корм скотине да сыпануть зерна курочкам – это она может.
Вернувшись из города Ольга Петровна узнала, что Вера пока не дала согласия выйти замуж за Труфанова. Пока, до следующего лета. И что Толька Труфанов не отстаёт от неё.
Морозы закручивали каждый день узоры на стёклах, разукрашивали почту к Новому году. Вера сидела одна под нависающей над головой веткой ёлки, ещё с утра расписав почтальону почту и перечитав газеты. Она грустила, как и положено девушке на выданье, ей пошел двадцать первый год. Одна, она одна! Выдвинув ящик стола, Вера всматривалась в зеркальце – может, ей причёску изменить?
Пулька часто прибегала к Вере в Бобры. И Жижке хорошо было возле Веры. Теперь он чувствовал и за неё ответственность.
– Это Бобры? – вдруг раздалось в трубке по междугороднему. – Вера? С вами будет говорить «Таймыр». Разговаривайте же!
– Что говорить? – переспросила она.
– Вера! – раздался Пашин голос, – я на практике, в море… – В трубке затрещало, раздался долгий писк, и связь прервалась.
Вера, думая о чём-то, словно о давно решённом, сняла, улыбаясь, жёлтое кольцо с безымянного пальца. Она положила его в маленькую коробочку, убрала подальше в стол и посмотрелась снова в зеркало.
– Ах, Вера Максимовна, Вера Максимовна, – произнесла она весело вслух и укоризненно покачала головой. Потом, глядя в глаза Пульке, сказала: – И о чём вы только думаете, девушка! Павел Иванович в море, у него последняя практика, а у вас ветер в голове. Контрольная не решена, скоро сессия, а вы пустяшным свою голову забили основательно. Вот машина из района прибудет, а вы почту не проштемпелевали, посылки в мешок не упаковали. А люди ждут поздравлений, Новый год им будет радостно встречать. Вот и меня Пашенька хотел поздравить, я же знаю, да только связь оборвалась…
В последнюю перед Пашиным возвращением весну Пулька исчезла со двора. Уж горевала Ольга Петровна, горевала, искала её везде, даже в Митряхино побывала, всех опрашивала про беглянку, но ничего так и не узнала. Она затосковала, припомнив, как однажды Пулька стащила из кладовой колбасу, и ей досталось как следует. Ещё вдруг всплыла в памяти картина, что за какую-то малую провинность она незаслуженно отхлестала её фартуком…
И Жижке стало тоскливо. Корова коровой, петух и куры – тоже живность, но Пулька… Чего ей было уходить со двора, ведь, кажется, и не ссорились они, даже и не ворчали уже друг на друга, и вдруг исчезла… За своими переживаниями о Пульке он даже пропустил момент Пашиного возвращения. И, увидев его утром весело шагающим в Бобры, удивился не тому, что тот приехал, а что веселится, когда Пульки нет… В досаде Жижка качнулся веткой рябины, обдав парня прохладной утренней росой. «Чего веселишься? Приехал тут… «хозяин». Про Пульку и не вспоминаешь, – укорил он его безрадостно и безысходно в своём горе. – Может она, бедная, в последние морозы замёрзла на речке или забрела за насыпь дорожную и её там – машиной… И ведь какая умная была, как быстро выполняла команды. Как же я-то теперь без неё?..»
Почувствовав тревогу и не понимая, откуда она исходит, Паша остановился у рябины. Он смахнул с лица росу и вдруг вспомнил, что Пулька не встретила его, как обычно, у калитки звонким лаем.
– Да... – протянул он раздумчиво, – Пульки не было во дворе. Странно. И у мамы я не спросил.
Дальше он уже шагал не так весело, не так беспечно. Беспокойство за Пульку и ему передалось от Жижки.
Паша торопился к Вере, опередив свою телеграмму, поданную им из Митряхино в Бобры, ровно на два часа. Ровно на столько отлучилась телеграфистка, приняв от морячка сразу после открытия почты депешу. Она спокойно ушла на пару часиков домой, придавив телеграфный бланк недокушанным яблочком. Вот она вернётся к одиннадцати на рабочее место после постирушки, поставив варить бульон из курицы, помыв полы на летней кухне – как раз к приходу начальницы, тогда и передаст телеграмму по назначению. Чего торопиться, если отстучать телеграмму – всего-то и надо пару минут! Вот и готово! Никто и не заметил её отсутствия на рабочем месте, дело-то – сделано!
В это же самое время Вера получила телеграмму из Митряхино, что за шесть километров от Бобров: «Приходи сельсовету паспортом тчк Будем регистрироваться тчк Выходи меня замуж, – читала она по складам, светлея лицом. – Паша».
Он приехал и сделал ей предложение – позвал замуж!
– Паша приехал! – закричала она, выбегая на крыльцо с паспортом в поднятой руке. – Он меня ждёт у сельсовета! Пулька, милая, наш Пашенька приехал!
Сельсовет был закрыт до понедельника по причине сенокоса. Паша поднял растерянные глаза на запыхавшуюся от быстрой ходьбы Веру:
– Вот, – начал он упавшим голосом, – думал, мы поженимся сейчас, а они – закрыли его.
– Паша, – сказала счастливая Вера, – а ко мне Пулька прибежала! У неё четверо щеночков народились под нашим крыльцом! Это ничего, что всё закрыто, – её счастливые глаза сияли, – я согласна замуж без сельсовета.
Он долго вытаскивал что-то из кармана брюк, наконец, достал маленькую коробочку, вынул из неё кольцо и надел на безымянный палец Вериной правой руки.
– Тебе, с бирюзой. Мама написала, ты о таком мечтала.
Они шли по тропинке, ведущей к счастью, обнявшись, и ни на кого не обращая внимания. И снова Жижка слушал их сердца, бьющиеся одинаково сильно, и радовался мудрым вечным словам. Пулька бежала то рядом с Верой, то – с Пашей, заглядывая в корзину, которую тот осторожно нёс. Там спали щенки.
«Ну вот, – радостно подумал Жижка. – Нашего брата прибыло. Море, море – они собираются ехать к морю. А как же я-то? Мне, что ли, податься за молодыми? Ну да, уеду, а Пулькино потомство, как же без меня? Не-ет, – протянул он, – вот подрастим с ней этих кутят, тогда можно и о море помечтать…» – вздохнул облегчённо. «Опять он всё за меня решает, – подумала удовлетворённо Пулька. – Ладно уж, пускай возится с ними, раз охота. Всё же свой брат».
|